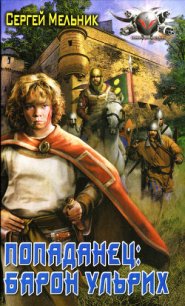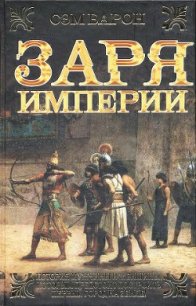Мюнхгаузен, История в арабесках - Иммерман Карл Лебрехт (читаем книги txt) 📗
- Вздернуть непокорного на сук, как это раньше делалось, они действительно больше не могут, - сказал собиратель, - но если они откажут ему в помощи, поддержке, ссуде или, пользуясь своим влиянием в качестве местных богатеев, доведут до того, что и другие начнут его избегать, никто не выпьет с ним в харчевне, а работники и работницы его бросят, - что тогда? Разве это не будет принуждением, и довольно внушительным? Какой только власти не имеет общество над человеком! Иной крестьянин внезапно лишается друзей и товарищей; так длится некоторое время, затем все опять с ним сходятся. Про такого говорят, что он опальный, и только покорность освобождает его двор от отлучения.
Охотник привел этот рассказ в связь с тем, что до сих пор оставалось ему непонятным. Он сообщил собирателю свое предположение относительно того, что вскоре что-то должно произойти на месте Тайного Судилища, и спросил его с жаром, нельзя ли устроить как-нибудь так, чтоб посмотреть на это собрание из потаенного места. Но коллекционер категорически отказался принять какое-либо участие в этой опасной затее.
Вошел возница, который должен был доставить охотника на Обергоф, и сообщил, что коляска ждет у дверей. Дело в том, что охотник обещал пастору поселиться в городе, но считал долгом вежливости лично поблагодарить своего старого хозяина и проститься с ним. В начале пути он не обращал внимания ни на дорогу, ни на коляску, так как мысли его вертелись вокруг Судилища и его тайн, которые, как тени, продолжали витать над этой местностью. "Удивительная страна, - воскликнул он про себя, - где ничто, по-видимому, не умирает! Как могло случиться, что отсюда не вышло еще ни одного великого поэта? Эти воспоминания, не желающие расстаться с почвой, эти старинные права и обычаи должны были воспламенить чью-нибудь фантазию". Он упустил из виду, что талант не полевой злак, а, как манна в пустыне, падает с неба.
Когда он снова стал обращать внимание на окружающие предметы, он заметил, что его маленькая коляска двигалась по-черепашьи, так как одна из лошадей сильно хромала. Он тотчас же решил отослать коляску обратно и проделать остальную часть пути пешком. Правда, теперь уже он не мог, как намеревался, вернуться в тот же день в город и принужден был переночевать на Главном Дворе.
Он застал Старшину за починкой дверей в амбаре. Когда старик поднял от работы свои сверкающие из-под седых бровей глаза, он напомнил ему после всех слышанных рассказов старца с Горы [65]. Охотник сообщил ему о своем предстоящем отъезде.
- Это как раз кстати, - сказал тот, - так как женщина, которая жила раньше в вашей комнате, велела мне передать, что она вернется сегодня или завтра; ей вам пришлось бы уступить, а другого удобного помещения у меня сейчас не найдется.
Весь двор тонул в красном освещении наступающего вечера. Чистое летнее тепло пропитывало воздух, не отягченный никакими испарениями. Между службами было безлюдно, по-видимому, работники и работницы еще находились в поле. Но и в доме тоже никого не было, как охотник успел заметить, проходя к себе в комнату. Там он привел в порядок свои разбросанные записи, уложил немногочисленные пожитки и стал искать ружье.
Но последнее исчезло. Он не понимал, кто мог его взять, и направился по коридору к лестнице, чтобы справиться о нем у Старшины. Тут ему послышался шорох в одной из боковых горниц. "Нет ли там какой-нибудь служанки; может быть, она знает", - подумал он и нажал ручку. Но он попал в спальню дочери и с ужасом увидел совсем недвусмысленную сцену. Он с сердцебиением поспешно вернулся в свою комнату; жених, молодой, здоровый парень, последовал туда за ним.
- Не обессудьте, - сказал он. - Уж второе оглашение было, и в четверг на той неделе - свадьба, а раз дело зашло так далеко, то это уж никого не касается, ни пастор, ни родной отец слова не скажут. Сегодня вечером на нашем дворе зерно ссыпают, а потому пришлось еще днем зайти к невесте.
- Меня это не касается, - ответил охотник в смущении. - Я только хотел узнать, куда девалось мое ружье.
- Это я вам скажу, - ответил парень. - Тесть забрал его тайком и спрятал за большой шкап; он говорит, что третья хораль вашей истории...
- Какая хораль? Вы, вероятно, хотите сказать мораль?
- Ну да, значит, третья хораль вашей истории та, что стрелку, который промахивается от рождения, нельзя давать ружья в руки. Если кто просто пуделяет, так это наплевать, но кто пуделяет от рождения, тот может натворить больших бед.
Охотник не стал слушать дальше, а, перекинув ягдташ через плечо, поспешил к шкапу, достал ружье, зарядил его и быстрыми шагами вышел из усадьбы по направлению к Тайному Судилищу; ему хотелось стрельбой из ружья освободить душу от беспокойно метавшихся в ней образов. Уже в ароматных золотистых сумерках дубовой рощи он обрел нормальное самочувствие.
- По-видимому, это правда, - воскликнул он, - идиллические писаки (как пастушески-нежные, так и корявые картофельные поэты) [66] здорово исказили крестьянский мир. Наравне с грубостью этот мир заключает в себе традиции и церемонии; но он не лишен также приятности и изящества; только искать их надо не там, где их обыкновенно ищут. Разве парень только из невоздержанностей преждевременно вступил в свои права? Конечно, нет. Это такой порядок, милый, веселый обычай, и девушка, быть может, сочла бы себя обиженной, если бы жених им пренебрег.
На холме у Тайного Судилища ему стало хорошо на душе.
Шуршала рожь, колыша благодатные колосья, большой раскаленный диск луны поднимался на восточном краю неба, а с запада все еще притекали отсветы уходящего солнца. Воздух был так чист, что эти отсветы казались желто-зелеными. Охотник ощутил свою молодость, свое здоровье, свои надежды. Он стал на опушке за большим деревом.
- Сегодня попробую, можно ли пересилить судьбу, - сказал он. - Я выстрелю, только если зверь будет в трех шагах от дула; а если я и тут не попаду, то, значит, я заколдован.
За спиной у него был лес, перед ним спускался склон с большими камнями и деревьями вокруг Тайного Судилища, а желтые ржаные поля опоясывали это пустынное место. Над ним в верхушках деревьев раздавалось еще осторожно глухое воркование горлинки, а в ветвях над Судилищем принимались шуршать зелено-красными крыльями дикие бражники. Мало-помалу начинала оживать и земля в лесу. Сонно прополз еж сквозь кустарник; ласочка протиснула свое гибкое тельце в расщелину камня, узкую, как игольное ушко. Кролики выскочили осторожными прыжками, останавливаясь после каждого, приседая и прижимая уши, пока, осмелев, не вылезли из межи на ржаное поле и не стали приплясывать, играть и в шутку драться передними лапками.
Охотник старался не спугнуть этого кроличьего веселья. Наконец из леса вышла стройная лань. Умно направляя нос по ветру, оглядываясь направо и налево большими карими глазами, зверь с легкой грацией шел на своих тонких ногах. Теперь это хрупкое, дикое, увертливое животное находилось против дула притаившегося охотника. Оно было так близко, что нельзя было промахнуться. Он хотел нажать курок, но тут лань чего-то испугалась, прыгнула в сторону прямо на дерево, за которым он стоял; грянул выстрел, зверь крупными прыжками невредимо ускакал, а во ржи раздался крик, и несколько секунд спустя оттуда по тропинке, находившейся в направлении выстрела, появилась, покачиваясь, женская фигура.
Охотник отшвырнул ружье, бросился к женщине и думал, что он умрет на месте, когда узнал ее. Это была прекрасная девушка, ласкавшая лесной цветок. Он попал в нее вместо лани. Она держала руку между левым плечом и грудью, и оттуда из-под платка обильно текла кровь. Ее побледневшее лицо не было искажено болью, но все же на нем отражалось страдание. Она глубоко вздохнула три раза и сказала мягким и усталым голосом:
- Слава богу, кажется, ничего опасного, я могу дышать, хотя мне и больно. Попробую дойти до Обергофа, куда я и шла, когда со мной случилось это несчастье. Дайте мне вашу руку.
65
Согласно преданиям, так назывался глава восточной секты ассасинов.
66
Иммерман называет пастушеским поэтом автора "Идиллий" Соломона Геснера (1730-1788), а картофельным - Иогана Генриха Фосса (1751-1826), который обличал крепостное право.