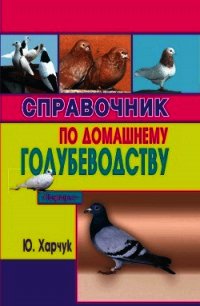Серебряный голубь - Белый Андрей (электронную книгу бесплатно без регистрации .txt) 📗
За окнами же близко, близко целебеевский парень благим матом ревет модную, кем-то по селам пущенную песнь:
Вечер: заскорузлыми пальцами отгребает Дарьяльский желто-розовые от зари стружки; космач, пыхтя, собирает гвозди, набирает их в рот; изо рта достает и быстро приколачивает к доске; Матрена Семеновна прошла, шурша стружками; у нее строго сдвинуты брови: глупая баба – чего ж ей таиться – уже ведь вечер, и теплятся звезды; уже прохлада бирюзой, и сквозной, и искристой дальние заливает рощи, и все там хмурится – сеется мрак и множатся тени, – а напротив усталое солнце истекает последним огнем: рубанки, фуганки, сверла Митрий сложил, свесил над ними тонкое мочало бороды, задумчиво оперся на пилу, и потом тихонько поплелся из избы обшлепанными лаптями; уже он на лугу, – и детишки от него прочь; хмурится вечер: скоро у всех тех, которые днем ходят с тусклыми очами, будут ясные очи, с поволокой, что полные масла голубые лампады; и тихие их промеж себя будут речи, что сахарный мед.
Светлый свет, утром рождаемый, к вечеру уже ослепительно блещет из очей этих трудом, что постом, преображающих себя человеков.
Ловитва
Бежит на аер сырой перламутровая рябь; в сыром в аере в зеленом уже более часу Дарьяльский тут горбится красным пятном; ушла далеко в воду от него уда – туда, где влажные пляшут на воде куски перламутров, разбиваясь о берега пузырчатой, жалобно поплескивающей водой; и ясно вниз от удочки натянута нить – и качается поплавок, проплывает грустная утица – а за ней тянется рябь; танцуют куски перламутров и над ними – стрекозы; позванивает в ухо Бог весть как с весны уцелевший комар; на черной землице в бумажке у ног копошатся красные черви; село сбоку от зари – яхонтовое, сверкающее крышами, стеклами, бревнами; дико сверкающий впереди кусок неба, и тоже яхонтовый.
Засевший где-то сбоку, Александр Николаич, дьячок, вытягивается разом; поплавок его пляшет, взлетает уда; и бьющаяся рыбёшка, светлые рисуя знаки чешуйчатым своим тельцем, попадает в жесткие дьячковские пальцы, где ей разрывается рот, и уже – пломб: булькнула в ведерце.
– Ай, да ловитва!
– Да! – отзывается из аера Петр.
– Исполать же и вам! – покрикивает дьячок.
– Да, не ловится что-то. Молчание: в молчании меркнет заря.
– Я на вас посмотрю, Петр Петрович, ей-Богу, простите за откровенность: ну, чего иетта вы едва ли что зачудили: барин, можно сказать, барином; и лицом Господь не обидел, и ученостью, так-таки, начинены, а какое-такое, прости Господи, наважденье: при всем том вашем и поступили в работники – да к кому?! К Митьке столяру!
У Дарьяльского ноги болят, спину ломит, поднывают с работы руки, в душе же – сладость да радость, блаженство неизреченное; на дьячковское слово усмехается; смотрит – туда, чрез село: в голове-то его рифмоплетчество, ладно складываются слова:
Все – «а я-а» да «а-я-а»: рифму бы к яхант? А рифмы-то нет – что за черт! А поплавок-то его подплясывает: крупная, видно, рыбина укусила червя.
– Отчего же, Александр Николаевич, и мне не столярничать? И так я очумел от книг да от ученья: столярничаю себе…
– Для, значит, моциону, – осклабился дьячок, – точно оно; тоже вот как на какую голову – книга-то; иная от книги голова и просто балдеет. Вот хоть бы я: как книгу раскрою – пошли в мозгах писать турусы да белендрясы.
– Скверная штука – ученье!
– Хе-хе: балда балдой! «Взз-взз-взз» – пролетает ласточка. Молчание: меркнет заря.
– Последняя ласточка!
– Недолго им тут летать, сгинут – а куда?
– В Африку, Александр Николаевич, – в Африку, к мысу Доброй Надежды.
– Неужли в Африку? – удивляется дьячок.
– Так-таки и улетят.
– Летуньи.
– Летуньи, – умиляется и Петр.
Оба следят за ласточкой, как кружит белогрудая, и кружит, и летит, и зовет, и пищит, – и туда, и сюда, и туда, и сюда: «и в и в и»; грудью к пруду прильнула, под самый крест колокольный взвилась и над этим теперь от зари яхонтовым знаком затанцевала в воздушном восторге плясавица-ласточка: «ививи-ививи»…
– Ишь пляшет!
– Что царь Давит пред ковчегом завета [81].
И Петр думает: «милая, милая, заветная ласточка, белогрудая»; летит легколетная ласточка… И повизгивает про Катю. «Ививи! Ививи» – ласточка унеслась к Гутолеву: «Ививи» – замирает над деревьями; тихо: расходятся на воде круги, – и душемутительная дума, плаксивый звук накачиваемой из колодца воды, – тишь, гладь, сонь, мгла. Во мгле пропадает дьячок; уже его нет как нет; и душемутительная дума.
Куда Петр ушел? Что с ним? Никогда, нигде, ничего с ним такого и не бывало. Не снится нигде, никогда, ничего такого, кроме как в России; а здесь среди простых этих, не хитроумных людей, все это снится; знают русские поля тайны, как и русские леса знают тайны; в тех полях, в тех лесах бородатые живут мужики и многое множество баб; слов не много у них; да зато у них молчанья избыток; ты к ним приходи – и с тобой они поделятся тем избытком; ты к ним приходи, ты научишься молчать; пить будешь ты зори, что драгоценные вина; будешь питаться запахами сосновых смол; русские души – зори; крепкие, смольные русские слова: если ты русский, будет у тебя красная на душе тайна, и что липкая смола твое духометное слово; виду у него нет, а привязывается, и дух от слова идет благодатный, приятный; а скажи простое то слово – будто бы ничего в простом том слове и нет; слов тех не знают и вовсе те, что живут в городах, придавленные камнями: те, как приедут в деревню, видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу да из соломы грязного мужичка угрюмо насупленное лицо; а что то не мужик, а втайне благовествующий Кудеяров столяр, – им и вовек не понять, не узнать; они видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу да из соломы бабью глупую болтовню; а что то краля Матрена Семеновна с устами сахарными, с медовой сладостью поцелуев, – все то от них скрыто.
Бедные, бедные! Задумался Петр: уже весь сон запада прошел перед ним и уже сон отошел; он думал: многое множество слов, звуков, знаков выбросил запад на удивленье миру; но те слова, те звуки, те знаки, – будто оборотни, выдыхаясь, влекут за собой людей, – а куда? Русское же, молчаливое слово, от тебя исходя, при тебе и остается: и молитва то слово; как выплеснутая в воздух золотого чарка вина, что камушками, самоцветными брызгами горит в солнце, опадая каплями этими код ноги в грязь и тебя оставляя неутоленным, хотя бы и призывая к тебе посторонних людей ми-мутно полюбоваться дождю золотых капель, – так вот и слова, которым нас обучает запад; свои гам выплескивают наружу слова, в книги, во всякую премудрость и науку; оттого-то вот там и сказуемые слова, и сказанный склад жизни: вот что такое запад. Но ведь не слово – душа: грустит она о несказуемом, она о несказанном томится. И не то в России: полевые люди, лесные, в слова не рядятся, и складом жизни не радуют взора; слово их что ни есть сквернословие; жизни склад – пьяный, бранчливый: неряшество, голод, немота, тьма. А ты и смекай: духовное винцо на столе-то перед каждым; и каждый слов несказанных и чувств несказуемых то винцо про себя выпивает. Говорит, будто заикается, да все о таком простом; молчит же – диковинное молчанье! Уста последними тебя обругают словами в то время, как тонут очи в ясной заре; уста бранятся, а очи благословляют; начнет говорить, что твое обстругает бревно; а запел вот – и… словом, далеко по белу свету разлетелась молва о тех песнях о русских; а кто же те песни поет, кто их сложил? Тот самый сложил их мужлан, который тебя при случае по-матерному ругнет.
81
Имеется в виду восторженная пляска библейского царя Давида при перенесении ковчега (II книга Царств, 6).