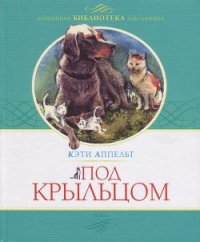Плющ оплел ступени - Боуэн Элизабет (читать книги онлайн без TXT) 📗
– Значит, сегодня? Мы будем к восьми.
Званый обед у Конкэннонов, на котором Гэвин исполнял роль кавалера при миссис Николсон, ознаменовал новую фазу в их дружбе, большую близость, и это было только начало. Простуда Рокэм подорвала авторитет Рокэм: она не могла уже во все вмешиваться и командовать. О постыдных спусках на пляж не могло быть и речи, и утренние часы миссис Николсон стали законным достоянием Гэвина; что же до вечеров, то и тут она мило старалась, как бы ему где-то не оказалось неинтересно и не пришлось бы скучать. Гостям, приходившим к чаю, само собой открывалось его новое положение. Спать он ложился все позже и позже; понапрасну Рокэм стояла и громко кашляла под дверью; не раз он и обедал со всеми, внизу. Когда задергивали шторы, не кто иной, как он, зажигал свечи на пианино, стоял рядом с миссис Николсон – якобы с тем, чтоб переворачивать ноты, – и забывал о партитуре, следя за тем, как ее руки летают над клавишами. И в то же время он представлял себе кого-то – да хоть себя, – кто стоял бы на темной, холодной улице и оттуда сквозь щелку меж шторами видел бы в яркой комнате их обоих. Как-то она пела «В серых очах твоих радость погасла».
Когда она кончила, он сказал:
– Это же мужчина поет женщине.
Повернувшись на стуле, она сказала:
– Ну так разучи ее.
Он возразил:
– Но у вас не серые глаза.
Да, глаза у нее были цвета необычного. В их сапфировой тьме, как и в сапфире ее кулона, отражалось электричестве адмиральской столовой. Круглое сооружение на штивах, с красной шелковой оборкой, висело над столом и охватывало гостей ярким кругом света. Под ним почти неестественной белизной сияла скатерть. Центр стола украшала ваза в виде фазана, серебряная или фраже, а вокруг нее в четырех серебряных рожках, чуть-чуть, но явственно не в тон красному абажуру, зато прелестно оттеняя лиловый блеск платья миссис Николсон сверкали гвоздики. Стол был сервирован на восемь персон; xoть Конкэнноны столь усиленно подчеркивали, что это всего лишь скромная встреча друзей, ничего более грандиозного они, видимо, и представить себе не могли. Общество было самое изысканное, серебро и хрусталь блестели и расставлены были с математической точностью, вышколенные горничные разносили блюда, тщетно стараясь не дышать в этой мертвой тишине, – все, все было плод трудов и раздумий. Гэвина и миссис Николсон усадили друг против друга. Ее взгляд, легко блуждая, время от времени останавливался на нем. Он гадал, сознает ли она всю неуместность их явления, и думал, что сознает.
Ибо этот обед был задуман как строго торжественный и терял иначе всякий смысл. Даже дочек Конкэннонов (больших девочек, но пока с распущенными волосами) отослали на этот вечер. Замысел был как карточный домик – осторожно и тщательно выстроен, но ненадежен. И все сооружение зашаталось до основанья от одного презрительного щелчка – от каприза миссис Николсон, явившейся с молокососом. Гэвину тогда впервые открылось то, чего он уже не забывал всю жизнь, – как беспомощно, в сущности, общество. Беседа, журчавшая как пианола, не могла прикрыть нервозности, царившей за столом.
Адмирал во главе стола весь подался вперед, словно нажимая на педали пианолы. На дальнем конце стола безудержный кашель то и дело сотрясал декольте миссис Конкэннон и пенсне, посаженное высоко на ее нос и придававшее лицу вид тонкого безучастья. Она была самоотверженна, как положено жене моряка и геройски сидела в бледно-голубом платье без шали – при ее-то хрупком здоровье. Адмирал гордился отвагой жены, и гордость эта теплыми волнами омывала серебряного фазана. Ибо радость миссис Конкэннон, претерпевавшей все ради мужа и всецело себя ему посвятившей, защищала ее легкой броней: она кажется, не замечала общего сочувствия. Гэвина она встретила чрезвычайно мило; она мягко сказала миссис Николсон: «Надеюсь, он не будет робеть, если его посадить не с вами?»
Перемещенья за столом в последнюю минуту неизбежно разочаровали бы одного из тех двух джентльменов, которые рассчитывали сесть (и действительно сели) по правую и по левую руку от миссис Николсон. Все больше и больше, покуда блюдо сменялось блюдом, показывали эти двое, насколько ценят они выпавшее им счастье, – общее недовольство действовало на них, как полдневный жар подчеркивает запахи, и только усиливало опьянение от ее непосредственного соседства. Сама греховность ее сияла и переливалась не меньше ее платья, когда – и не лукаво, и не томно – она переводила с одного соседа на другого взор, тающий, если угодно, ибо в нем расплывались ее зрачки, никогда еще не бывавшие такими расширенными и темными, как сегодня. В этом взоре к концу обеда, переставши биться, утонули оба мотылька.
Расплата должна была наступить на пути домой. Затихнув между женами мотыльков, не сводя очарованных глаз с колышущегося кулона миссис Николсон, Гэвин жевал не переставая. Когда дамы поплыли в гостиную, его затянуло туда же волнами последней юбки… В конце вечера адмирал в полном молчании проводил миссис Николсон до кареты, а Гэвин, как запоздалая мысль, как обезьяна, скользнул следом за нею, согнувшись под адмиральской рукой, распахнувшей дверцу. Потом на минуту высветилось в покатившихся огнях подъезда неумолимое, четкое лицо… Миссис Николсон, казалось, очень сосредоточенно подбирала юбки, освобождая Гэвину место. Потом откинулась на подушки в своем углу, он – в своем. Весь темный, недолгий путь до дому оба напряженно молчали. Только когда уже она сбросила плащ перед камином у себя в гостиной, она сказала:
– Адмирал на меня сердится.
– Из-за меня?
– Господи, да нет же; из-за нее. Если б я не думала, что сердиться ужасно глупо, я б сама на него рассердилась.
– Но вы же и хотели его рассердить? – сказал Гэвин.
– Просто он очень глупый. Поэтому. Не будь он так глуп это несчастное создание не стало б так долго кашлять – пришлось бы ей или выздороветь, или бы уж умереть.
Она не отходила от камина и разглядывала фрезии в вазе. Потом равнодушно отщипнула увядшие цветки, закатала в воск, бросила в огонь, и они зашипели.
– Если люди устраивают обед с единственной целью – показать, как они счастливы в браке, чего же от их вечера и ожидать?… Впрочем, мне было очень весело. Тебе, надеюсь, тоже?
Гэвин сказал:
– Миссис Конкэннон совсем старая. Но ведь адмирал – он тоже старый.
– В общем-то, ему недалеко до этого, – сказала миссис Николсон. – То-то он все о войне хлопочет. Казалось бы, ты мужчина – ну и будь мужчиной… В чем дело, Гэвин? На что ты смотришь?
– Это самое ваше красивое платье.
– Да. Потому я его и надела.
Миссис Николсон опустилась на бархатный синий пуф и придвинула его к огню. Она немного дрожала.
– Ты такие милые вещи говоришь, Гэвин. Как нам с тобой хорошо.
Потом, словно собственные слова вдруг дошли до нее, покуда дрезденские часы над ее головой отсчитали секунды молчанья, она повернулась и порывистым жестом подманила его к себе. Рука ее обвилась вокруг него; пышный рукав всколыхнулся и тотчас снова опал в тишине. Из огня вывалился уголек, и, выпустив плотное, бледное, дрожащее пламя, взметнулся сноп газа.
– Ты рад, что мы опять дома? – спросила она. – Только ты да я? Ох, и зачем терпеть общество таких людей, мир ведь широк! да зачем я тут торчу? Почему б нам не отправиться куда-нибудь, а, Гэвин? Вдвоем – только ты да я? Хоть в Германию? Или на солнышко? Хочешь?
– Очень… очень веселый огонек, – сказал он, не отводя глаз от камина.
Она отпустила его плечо и вскрикнула безнадежно:
– Какой же ты еще ребенок!
– Я не ребенок.
– Впрочем, поздно уже. Тебе пора спать.
Снова ее затрясло, но она скрыла дрожь за легкой зевотой.
Сам не свой, он потащился наверх, проводя ладонями мутные полосы на блестящих перилах; он с трудом взбирался по лестнице – прочь от нее, как тогда взбирался по круче – ей навстречу.
После той зимней поездки Гэвина в Саутстаун случились две перемены: миссис Николсон отправилась за границу, он же отправился в школу. Он случайно услышал, как мать говорила отцу, что Лилиан на сей раз сочла зимний воздух Саутстауна чересчур для себя холодным.