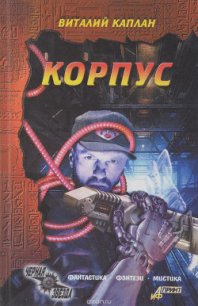Раковый корпус - Солженицын Александр Исаевич (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
На мгновение болтнулся проводок к миру внешнему — и оборвался. И опять весь мир закрыла опухоль величиной с кулак, подставленный под челюсть.
Павел Николаевич достал зеркальце и посмотрел. Ух, как же её разносило! Посторонними глазами и то страшно на неё взглянуть — а своими?! Ведь такого не бывает! Вот кругом ни у кого же нет! Да за сорок пять лет жизни Павел Николаевич ни у кого не видел такого уродства!..
Не стал уж он определять — ещё выросла или нет, спрятал зеркало да из тумбочки немного достал-пожевал.
Двух самых грубых — Ефрема и Оглоеда, в палате не было, ушли. Азовкин у окна ещё по-новому извернулся, но не стонал. Остальные вели себя тихо, слышалось перелистывание страниц, некоторые легли спать. Оставалось и Русанову заснуть. Скоротать ночь, не думать — а уж утром дать взбучку врачам.
И он разделся, лёг под одеяло, накрыл голову полотенцем и попробовал заснуть.
Но в тишине особенно стало слышно и раздражало, как где-то шепчут и шепчут — и даже прямо в ухо Павлу Николаевичу. Он не выдержал, сорвал полотенце с лица, приподнялся, стараясь не сделать больно шее, и обнаружил, что это шепчет его сосед узбек — высохший, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой чёрной бородки и в коричневой же потёртой тюбетейке.
Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в потолок и шептал — молитвы, что ли, старый дурак?
— Э! аксакал! — погрозил ему пальцем Русанов. — Перестань! Мешаешь!
Аксакал смолк. Опять Русанов лёг и накрылся полотенцем. Но уснуть всё равно не мог. Теперь он понял, что успокоиться ему мешает режущий свет двух подпотолочных ламп — не матовых и плохо закрытых абажурами. Даже через полотенце ощущался этот свет. Павел Николаевич крякнул, опять на руках приподнялся от подушки, ладя, чтоб не кольнула опухоль.
Прошка стоял у своей кровати близ выключателя и начинал раздеваться.
— Молодой человек! Потушите-ка свет! — распорядился Павел Николаевич.
— Та ще… лекарства нэ принэсли… — замялся Прошка, но приподнял руку к выключателю.
— Что значит — "потушите"? — зарычал сзади Русанова Оглоед. — Укоротитесь, вы тут не один.
Павел Николаевич сел как следует, надел очки и, поберегая опухоль, визжа сеткой, обернулся:
— А вы повежливей можете разговаривать?
Грубиян скорчил кривоватую рожу и ответил низким голосом:
— Не оттягивайте, я не у вас в аппарате. Павел Николаевич метнул в него сжигающим взглядом, но на Оглоеда это не подействовало ничуть.
— Хорошо, а зачем нужен свет? — вступил Русанов в мирные переговоры.
— В заднем проходе ковырять, — сгрубил Костоглотов. Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу! Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия.
— Так если почитать или что другое — можно выйти в коридор, — справедливо указал Павел Николаевич. — Почему вы присваиваете себе право решать за всех? Тут — разные больные, и надо делать различия…
— Сделают, — оклычился тот. — Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас — ногами вперёд.
Такого необузданного неподчинения, такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил.
И он даже терялся — что можно противопоставить? Не жаловаться же этой девчонке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки, осторожно лёг и накрылся полотенцем.
Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лёг в эту клинику. Но не поздно будет завтра же и выписаться.
На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь все терпеть. Когда-нибудь же они успокоятся.
Но опять началась ходьба и тряска между кроватями — это, конечно, Ефрем вернулся. Старые половицы комнаты отзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж решил Павел Николаевич замечания ему не делать, терпеть.
Сколько ещё в нашем населении неискорененного хамства! И как его с этим грузом вести в новое общество!
Бесконечно тянулся вечер! Начала приходить сестра — один раз, второй, третий, четвёртый, одному несла микстуру, другому порошок, третьего и четвёртого колола. Азовкин вскрикивал при уколе, опять клянчил грелку, чтоб рассасывалось. Ефрем продолжал топать туда-сюда, не находил покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей кровати. Как будто все только сейчас и оживали по-настоящему, как будто ничто их не заботило и нечего было лечить. Даже Демка не ложился спать, а пришёл и сел на койку Костоглотова, и тут, над самым ухом Павла Николаевича, они бубнили.
— Побольше стараюсь читать, — говорил Демка, — пока время есть. В университет поступить охота.
— Это хорошо. Только учти: образование ума не прибавляет.
(Чему учит ребёнка, Оглоед!)
— Как не прибавляет?!
— Так вот.
— А что ж прибавляет?
— Ж-жизнь.
Демка помолчал, ответил:
— Я не согласен.
— У нас в части комиссар такой был, Пашкин, он всегда говорил: образование ума не прибавляет. И звание — не прибавляет. Иному добавят звёздочку, он думает — и ума добавилось. Нет.
— Так что ж тогда — учиться не надо? Я не согласен.
— Почему не надо? Учись. Только для себя помни, что ум — не в этом.
— А в чём же ум?
— В чём ум? Глазам своим верь, а ушам не верь. На какой же ты факультет хочешь?
— Да вот не решил. На исторический хочется, и на литературный хочется.
— А на технический?
— Не-а.
— Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты — нет?
— Меня… общественная жизнь очень разжигает.
— Общественная?… Ох, Демка, с техникой — спокойней жить. Учись лучше приёмники собирать.
— А чего мне — покойней!.. Сейчас вот если месяца два тут полежу — надо за девятый класс подогнать, за второе полугодие.
— А учебники?
— Да два у меня есть. Стереометрия очень трудная.
— Стереометрия?! А ну, тащи сюда! Слышно было, как пацан пошёл и вернулся.
— Так, так, так… Стереометрия Киселева, старушка… Та же самая… Прямая и плоскость, параллельные между собой… Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в плоскости, то она параллельна и самой плоскости… Чёрт возьми, вот книжечка, Демка! Вот так бы все писали! Толщины никакой, да? А сколько тут напихано!
— Полтора года по ней учат.
— И я по ней учился. Здорово знал!
— А когда?
— Сейчас тебе скажу. Тоже вот так девятый класс, со второго полугодия… значит, в тридцать седьмом и в тридцать восьмом. Чудно в руках держать. Я геометрию больше всего любил.
— А потом?
— Что потом?
— После школы.
— После школы я на замечательное отделение поступил — геофизическое.
— Это где?
— Там же, в Ленинграде.
— И что?
— Первый курс кончил, а в сентябре тридцать девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати, и меня загребли.
— А потом?
— Потом действительную служил.
— А потом?
— А потом — не знаешь, что было? Война?
— Вы — офицер были?
— Не, сержант.
— А почему?
— А потому что если все в генералы пойдут, некому будет войну выигрывать… Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения… Слушай, Демка! Давай я с тобой каждый день буду стереометрией заниматься? Ох, двинем! Хочешь?
— Хочу.
(Этого ещё не хватало, над ухом.)
— Буду уроки тебе задавать.
— Задавай.
— А то, правда, время пропадает. Прямо сейчас и начнём. Разберём вот эти три аксиомы. Аксиомы эти, учти, на вид простенькие, но они потом в каждой теореме скрытно будут содержаться, и ты должен видеть — где. Вот первая: если две точки прямой принадлежат плоскости, то и каждая точка этой прямой принадлежит ей. В чём тут смысл? Вот пусть эта книжка будет плоскость, а карандаш — прямая, так? Теперь попробуй расположить…
Заладили и долго ещё гудели об аксиомах и следствиях. Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повёрнутый к ним спиной. Наконец, замолчали и разошлись. С двойным снотворным заснул и умолк Азовкин. Так тут начал кашлять аксакал, к которому Павел Николаевич повёрнут был лицом. И свет уже потушили, а он, проклятый, кашлял и кашлял, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнётся.