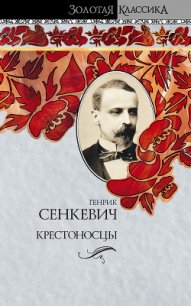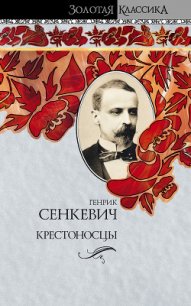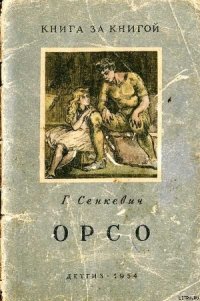Без догмата - Сенкевич Генрик (лучшие книги онлайн TXT) 📗
Прежде всего должен отметить, что религиозные верования, вынесенные мною нетронутыми из коллегии в Метце, не устояли, когда я стал читать книги по философии естествознания. Но из этого вовсе не следует, что я стал атеистом. О нет! Это было хорошо в былые времена, – тогда, если кто не признавал «духа», он мог признавать власть материи и на этом успокаивался. А ныне только доморощенные философы занимают такую отсталую позицию. Ныне философия таких вопросов не предрешает, она отвечает на них «не знаю». И это свое «не знаю» усиленно внушает нам. Современная же психология занимается весьма точным анализом различных психологических явлений, а на вопрос о бессмертии души также отвечает «не знаю». И она действительно этого не знает, да и знать не может.
Теперь мне будет легче охарактеризовать состояние моего сознания. «Не знаю, не знаю, не знаю!» – вот чем оно исчерпывается. Это осознанное бессилие человеческого разума – подлинная трагедия. Не говоря уже о том, что человеческая душа всегда будет вопить, требуя ответа на волнующие ее вопросы, – ведь это же вопросы величайшей важности, реальнейшего значения для человека. Если на том свете есть что-то и нас ждет там вечность, то несчастья и утраты в земной жизни – ничто и о них можно было бы сказать словами Гамлета: «Черт с ним, с трауром, надену соболью мантию». «Я согласен умереть, – говорит Ренан, – если буду знать, на что нужна человеку смерть». А философия отвечает: «Н е з н а ю».
Человек мечется в этой страшной неизвестности, чувствуя, что, если бы мог уверовать во что-то одно, ему было бы легче и спокойнее. Но как же быть? Винить философию в том, что она не создает больше тех теорий, которые каждый день рассыпались подобно карточным домикам, а признала свое бессилие и занялась изучением и систематизацией явлений в границах, доступных человеческому уму? Нет! Но думается все-таки, что я и всякий другой человек вправе сказать ей: «Я восхищаюсь твоей трезвостью, преклоняюсь перед точностью твоих анализов, но при всем том ты сделала меня несчастным. Ты сама признаешь, что не в силах ответить на вопросы первостепенной для меня важности. Однако у тебя хватило силы подорвать мою веру, которая на эти вопросы давала мне ответ не только твердый, но и полный отрады и утешения. Не говори, что ты, ничего не утверждая, тем самым позволяешь мне верить во что угодно. Неправда! Твои методы, твой дух, самая сущность твоя, все это – сомнения и критика. Твой научный метод – скептицизм и критику – ты так успешно привила моей душе, что они стали моей второй натурой. Словно каленым железом, выжгла ты во мне все те фибры души, которыми люди веруют просто и бесхитростно, так что сейчас, если бы я и хотел веровать, мне больше веровать нечем. Ты не запрещаешь мне ходить в церковь, если хочется, но отравила меня скептицизмом настолько, что теперь я скептически отношусь даже к тебе, даже к собственному неверию, и не знаю, не знаю, ничего не знаю, и мучаюсь, и бешусь в этой тьме!..»
Рим, 12 января
Вчера я писал с некоторой запальчивостью, но объясняется это, вероятно, тем, что пришлось коснуться язв и моей собственной и вообще человеческой души. Бывают в моей жизни периоды равнодушия к этим вопросам, но по временам они меня мучают немилосердно, тем более что их таишь в себе от всех. Лучше было бы, пожалуй, о них не думать, но это невозможно – слишком они важны. В конце концов человек хочет знать, что его ожидает и как ему прожить свою жизнь! Правда, я не раз пробовал убеждать себя: «Довольно! Из этого заколдованного круга не выйдешь, так нечего и входить в него!» У меня есть все для того, чтобы стать сытым и веселым животным, – но не всегда я могу этим удовлетворяться. Говорят, у славян природная склонность к мистицизму, интерес к потустороннему миру. Я заметил, например, что все наши великие писатели в конце концов впадали в мистицизм. Что же удивительного в том, что мучаются и обыкновенные люди? Я не мог не написать об этой внутренней тревоге: хочу дать ясную картину состояния своей души. К тому же человек по временам испытывает потребность оправдаться перед самим собой. Вот, например, я, нося в душе вечное «не знаю», соблюдаю, однако, предписания религии и все же не считаю себя человеком неискренним. Моя религиозность была бы лицемерием лишь в том случае, если бы я вместо «не знаю» мог сказать: «Знаю, что ничего этого нет». А наш современный скептицизм не есть прямое отрицание: нет, это скорее болезненно-мучительное подозрение, что, может быть, ничего нет. Это – густой туман, который царит у нас в мозгу, давит грудь, заслоняет нам свет. И я простираю руки к солнцу, которое, быть может, сияет за этой завесой тумана. И думаю, что в таком положении нахожусь не я один и что молитвы многих, очень многих из тех, кто ходит по воскресеньям к обедне, сводятся к трем словам: «Боже, рассей тьму!»
Я не могу хладнокровно писать о таких вещах. Предписания религии я соблюдаю еще и потому, что жажду веры. Ибо я воспитан в отрадном убеждении, что непременное следствие веры – благодать божья, и вот я жду этой благодати. Жду, чтобы мне было ниспослано свыше такое состояние души, при котором я мог бы веровать глубоко, без тени сомнений, как веровал ребенком. Таковы мои высшие стремления – в них нет ни капли своекорыстия, ибо гораздо выгоднее быть только сытым и веселым животным.
А захоти я объяснить свою внешнюю религиозность менее высокими и более практическими мотивами, их у меня найдется множество. Во-первых, выполнение некоторых обрядов с детства стало для меня почти неистребимой привычкой. Во-вторых, подобно Генриху Четвертому, который говорил, что «Париж стоит мессы», я говорю себе: «Спокойствие моих близких стоит мессы». Люди нашего круга соблюдают предписания религии, и моя совесть стала бы против этого восставать лишь в том случае, если бы я мог сказать себе нечто более положительное, чем «не знаю». Наконец я хожу в костел еще и потому, что я скептик в квадрате, то есть скептически отношусь даже к собственному неверию.
И оттого мне тяжело. Душа моя влачит одно крыло по земле. Но было бы еще хуже, если бы я эти вопросы всегда принимал так близко к сердцу, как сейчас, когда писал эти две странички дневника. К счастью, это не так. Как я уже говорил, у меня бывают периоды равнодушия к «проклятым вопросам». А порой жизнь заключает меня в объятия, и, хотя я знаю, чего стоят ее прелести, я отдаюсь ей весь, тогда гамлетовское «быть или не быть?» теряет для меня всякое значение. И вот удивительное явление, над которым люди еще мало задумываются: огромную роль играет при этом влияние окружающей атмосферы. В Париже, например, я гораздо спокойнее – не только потому, что меня оглушает шум этого водоворота, что я киплю в нем вместе с другими, что сердце мое и ум заняты «фехтованием», а потому, что там люди (быть может, безотчетно) живут так, как будто все они глубоко уверены, что в жизнь эту надо вложить все свои силы, ибо после нее не будет ничего, только химическое разложение. В Париже пульс мой начинает биться в унисон с общим пульсом, и я настраиваюсь соответственно окружающему меня настроению. Веселюсь я или скучаю, одерживаю победы или терплю поражения, – душа моя относительно покойна.