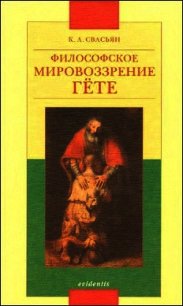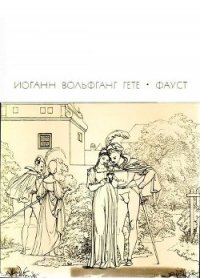Лотта в Веймаре - Манн Томас (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Томас Манн это сознавал и сам. И уже в этом коренным образом отличался от своих собратьев по перу буржуазного толка. Но его путь познания был труден, более того – сугубо затруднен противодействующей критикой, шедшей из буржуазного лагеря.
Неотступная борьба писателя за более отчетливое понимание исторических перспектив, за более точную объективно верную оценку современности не встречала какого-либо сочувствия. Она решительно объявлялась «преобладанием в его творчестве, по сути, антихудожественной рефлексии». Так отзывалась о нем даже «благожелательная» критика, и то же говорил о нем Гергарт Гауптман, признанный «король поэтов» империи Вильгельма II, пытавшийся сохранить это звание и в нацистской «третьей империи».
Декаденты объявляли Манна «отсталым» за его приверженность к классическому немецкому реализму и буржуазно-демократическим воззрениям, ставя ему в заслугу его слабости, его уступки ходовой реакционной идеологии. Либерально-буржуазная критика (а мы знаем, что такое немецкий либерализм XX века) упрекала Манна за «бесплодный критицизм» и выделяла с особым сочувствием идейно едва ли не самый слабый роман писателя «Королевское высочество» (при всех его чисто литературных достоинствах – тонкой иронии и изощреннейшем психологизме) за то, что в этом произведении писатель «дал наконец положительное решение проблемы». Ничтожный немецкий принц, достойно «представляющий» своего брата, больного герцога, на придворных и прочих церемониях, молодой человек с прекрасной военной выправкой и с учебником буржуазного экономиста под мышкой, к тому же женившийся на девушке бюргерского происхождения, обогатившей его страну американскими миллионами ее родителя, – ну как не восхититься таким высокородным воплощением «прусского пути» в развитии капитализма? К нашему глубокому удовлетворению, Томас Манн и сам был невысокого мнения об этом своем романе.
Повторяем, путь познания давался писателю нелегко. Не раз приходилось нам сталкиваться с прямо противоположными высказываниями Манна в одном и том же произведении, как со следствием мучительных его колебаний. Так, в этюде о Шопенгауэре автор, с одной стороны, говорил о филистерском непонимании философом революции 1848 года, с другой – явно сочувствовал «трагическому гуманизму» Шопенгауэра, его вере в человека без веры в способность человека и человечества разумно устроить свое грядущее историческое бытие…
Мы потому вспомнили о «Королевском высочестве», что «положительное решение проблемы» хочет дать и роман «Лотта в Веймаре», это несравнимо более зрелое и значительное произведение, одна из крупнейших и бесспорных удач Томаса Манна. И все же некоторые аналогии напрашиваются…
И то и другое произведение принадлежат к жанру «воспитательного романа». «Королевское высочество» – один из последних, несколько анахронических трактатов о «воспитании государя»; «Лотта в Веймаре», по сути, повествует о «воспитании художника», вернее, о «воспитании художником». Художник, по мысли Томаса Манна, учит нас «гармонии», согласно с самим собой, «дружески братскому доверию к своей природе, к своим прирожденным способностям», учит нас соизмерять «равно заложенные в нас духовные и природные начала».
Но этот призыв – соизмерять заложенные в людях духовные и природные силы – звучит в трактовке Томаса Манна не только абстрактно, но и достаточно двусмысленно. Ведь рядом с «прекрасной гармонией» может существовать и «убогая гармония» – соизмерение своих умственных и нравственных устремлений с рабским, униженным своим положением в обществе. За чтением «Лотты в Веймаре» не раз возникает вопрос: уж не этой ли «гармонии» должен научить нас художник? Во всяком случае, автор дает известный повод к такому пониманию «примера искусства». Ведь им вложена в уста Гете следующая тирада: «Господа и слуги, верно; но то были богом учрежденные сословия, достойные каждое на свой лад, и господин умел почитать то, чем он не был, богоданное сословие слуг…»
Правда, Томас Манн противопоставляет этим благочинным мыслям здравое возражение камердинера Карла:
«– Не знаю уж, ваше превосходительство, в конце концов нам, малым сим, все же приходилось горше. Нам нельзя слишком полагаться на уважение богоданного сословия знати.
– Пожалуй, ты прав, Карл. Как мне с тобой спорить? Ты держишь меня, твоего господина, под гребенкой и раскаленными щипцами и можешь рвануть мне волосы или прижечь меня, лишь только я начну возражать. Поэтому разумнее попридержать язык».
Но другое утверждение Гете Манн оставляет не поколебленным встречной репликой (поэт высказывает его в беседе с сыном Августом о предстоящем маскараде):
«– Сбоку, в цепях, медленно пойдут две женщины, красивые и благородные, ибо то Боязнь и Надежда, закованные в цепи умом, который и представит их публике как заклятых врагов человечества.
– И Надежду тоже?
– Непременно! С не меньшим правом, чем Боязнь. Подумать только, какие нелепые и сладостные иллюзии она внушает людям, нашептывая им, что они будут некогда жить беззаботно, как кому вздумается, что где-то витает счастье».
Итак, как следует из приведенного отрывка, «гармония», «согласие с самим собой» должны внедряться в сознание людей художником в стабильном мире, не в новом обществе, преображенном революционной волей народа. Искусство тем самым не ведет, не разрушает старое, не указывает высокие исторические цели, а выступает как сила, сглаживающая и примиряющая. Недаром Ример характеризует искусство как «всеиронию», как «моральный нигилизм», как всеобщее равнодушие к добру и злу, ибо «всерьез к страданиям мира оно не относится».
Повторяем: если автор «Лотты в Веймаре» полагал, что это – гетевское решение социальной и житейской проблемы, он жестоко ошибался. Более того, это, как позднее с достаточной очевидностью оказалось, не было даже решением писательской совести самого Томаса Манна, как ни глубоко внедрились в него иные антидемократические буржуазные предрассудки.
Гитлеризм и вторая мировая война, навязанные народам заправилами «третьей империи», заставили писателя радикально пересмотреть свои позиции и, в частности, свои взгляды на сущность и назначение искусства. В замечательной статье 1945 года «Германия и немцы» Томас Манн страстно осудил реакционные тенденции немецкой истории и немецкой культуры. В романе «Доктор Фаустус» он с мукой, но с тем большей отвагой восстал против антинародного искусства эпохи империализма, против декадентского эстетизма, идущего рука об руку с реакционной варваризацией политической и культурной жизни современного капиталистического мира; более того, он в «Фаустусе» вплотную подошел к нелегко давшейся ему, буржуазному интеллигенту, мысли о неотложности социалистического переустройства общества ради спасения всего, чем справедливо гордилось и гордится человечество.
Насаждать «гармонию» в насквозь порочном обществе искусство не может уже потому, что «само нуждается в освобождении», в «побратимстве» с простым человеком.
Эти мысли еще не утвердились в сознании автора «Лотты в Веймаре». Но Томас Манн медленно продвигался к пониманию истинного назначения искусства уже и в этой книге. Прежде всего тем, что так решительно в ней осудил склонность немцев к преклонению перед любым «кликушествующим негодяем… который обращается к самым низменным инстинктам, оправдывает их пороки и учит понимать национальное своеобразие как доморощенную грубость», – слова, явно метившие в Гитлера! Любопытно, что оппозиционные круги нацистской Германии не раз приводили это изречение, приняв его за подлинное высказывание Гете.
Но, конечно, «Лотта в Веймаре» дорога читателю не как ступень в развитии мировоззрения Томаса Манна, а безотносительными, бесспорными ее достоинствами. В этой книге – вопреки тогдашней (а впрочем, и никогда до конца не преодоленной) классовой ограниченности автора – ожил «в исчерпывающей полноте деталей» замечательный кусок истории со всеми его драматическими конфликтами, ожил творческий мир величайшего немецкого поэта, стал нам более понятен и близок. Для знатоков, сверх этого, составляет совсем особое наслаждение слышать точно воссозданный голос Гете, произносящий то хорошо известные, то вовсе неведомые слова и мысли. Замечательно, что даже то, с чем ты не соглашаешься, что признаешь ошибочным, здесь, вложенное в уста Гете или Римера, кажется характерной чертой конкретной психологии отошедших в прошлое лиц и эпохи.