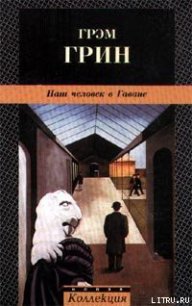Сила и слава - Грин Грэм (серия книг TXT) 📗
— Постарайся уснуть.
Он уже затворил за собой дверь, когда сзади послышался испуганный голос:
— Лейтенант.
— Да?
— Вы видели, как расстреливают? Таких, как я.
— Да.
— Боль длится долго?
— Нет, нет. Мгновение, секунду, — грубо сказал он и, захлопнув дверь, побрел по тюремному двору. Он зашел в участок: фотографии священника и бандита все еще висели на стене; он сорвал их — больше они не понадобятся. Потом сел за свой стол, опустил голову на руки и, поддавшись непреодолимой усталости, заснул. Он не мог вспомнить потом, что ему снилось, — в памяти остался только хохот, непрерывный хохот и длинный коридор, выхода из которого найти было нельзя.
Священник сидел на полу, держа фляжку в руках. Так прошло несколько минут, потом он отвинтил колпачок и поднес фляжку ко рту. Бренди не оказало на него никакого действия, точно вода.
Он поставил фляжку на пол и начал шепотом перечислять свои грехи. Он сказал:
— Я предался блуду. — Эта формальная фраза ничего не значила, она была как газетный штамп и раскаяния вызвать не могла. Он начал снова: — Я спал с женщиной, — и представил себе, как стал бы расспрашивать его священник: «Сколько раз? Она была замужем?» — «Нет». Бессознательно он снова отхлебнул из фляжки.
Вкус бренди вызвал у него в памяти дочь, вошедшую с яркого, солнечного света в хижину, — ее хитрое, насупленное, недетское лицо. Он сказал:
— О Господи, помоги ей. Я заслужил твое проклятие, но она пусть живет вечно. — Вот любовь, которую он должен был чувствовать к каждой человеческой душе, а весь его страх, все его стремления спасти сосредоточились не по справедливости на этом одном ребенке. Он заплакал: девочка словно медленно уходила под воду, а он мог только следить за ней с берега, ибо разучился плавать. Он подумал: вот как я должен бы относиться ко всем людям, — и заставил себя вспомнить метиса, лейтенанта, даже зубного врача, в доме которого побывал, девочку с банановой плантации и множество других людей, и все они требовали его внимания, словно толпились у тяжелой двери, не поддающейся их толчкам. Ибо этим людям тоже грозит опасность. Он взмолился: — Господи, помоги им! — И лишь только произнес эти слова, как снова вернулся мыслью к своей дочери, сидящей у мусорной кучи, и понял, что молится только за нее. Опять нет ему оправдания.
Помолчав, он снова начал:
— Я бывал пьян, сам не знаю, сколько раз. Нет священнического долга, которым я бы не пренебрегал. Я повинен в гордыне, мне не хватало милосердия… — Эти слова опять были буквой исповеди, лишенной всякого значения. Не было рядом с ним исповедника, который обратил бы его мысли от формулы к действительности.
Он снова приложился к фляжке, встал, превозмогая боль в ноге, подошел к двери и выглянул сквозь решетку на залитый луной тюремный двор. Полицейские спали в гамаках, а один, которому не спалось, лениво покачивался взад и вперед, взад и вперед. Повсюду, даже в других камерах, стояла необычная тишина — будто весь мир тактично повернулся к нему спиной, чтобы не быть свидетелем его предсмертных часов. Он ощупью прошел вдоль стены в дальний угол и сел на пол, зажав фляжку между колен. Он думал: будь от меня хоть какая-нибудь, хоть малейшая польза! Последние восемь лет — тяжелых, безнадежных — показались ему теперь карикатурой на пастырское служение: считанные причастия, считанные исповеди и бессчетное количество дурных примеров. Он подумал — если б я спас хоть одну душу и мог бы сказать: вот, посмотри на мои дела… Люди умерли за него, а им бы надо умереть за святого — и горькая обида за них затуманила ему мысли, ибо Бог не послал им святого. Такие, как мы с падре Хосе, такие, как мы! — подумал он и снова хлебнул бренди из фляги. Перед ним предстали холодные лица святых, отвергающих его.
Эта ночь тянулась дольше той — первой в тюрьме, потому что он был один. Лишь бренди, приконченное к двум часам ночи, сморило его. От страха он чувствовал тошноту, в желудке начались боли, во рту после выпитого пересохло. Он стал разговаривать вслух сам с собой, потому что тишина была нестерпима. Он жалобно сетовал:
— Это хорошо для святых… — Потом: — Откуда мне известно, что все кончится в одно мгновение? А сколько оно длится, мгновение? — И заплакал, легонько ударяясь головой об стену. Падре Хосе дали возможность уцелеть, а ему — нет. Может, неправильно его поняли потому, что он так долго был в бегах. Может, решили, что он не пойдет на те условия, которые принял падре Хосе, что он откажется вступить в брак, что он гордец. А если самому предложить такой выход, может, это спасет его? Надежда принесла успокоение, и он заснул, прислонившись головой к стене.
Ему приснился странный сон. Он сидел за столиком в кафе перед высоким соборным алтарем. На столике стояло шесть блюд с кушаньями, и он ел с жадностью. Пахло ладаном, он чувствовал подъем душевных сил. Как всегда во сне, кушанья не имели вкуса, но вот он доест их, и тогда ему подадут самое вкусное. Перед алтарем ходил взад и вперед священник, служивший мессу, но он почти не замечал этого: церковная служба уже не касалась его. Наконец все шесть блюд стояли пустые. Кто-то невидимый глазу позвонил в колокольчик, и священник, служивший мессу, опустился на колени перед тем, как вознести чашу с дарами. Но он сидел и ждал, не глядя на Бога над алтарем, точно этот Бог был для других людей, а не для него. Потом стакан рядом с тарелкой начал наполняться вином, и, подняв глаза, он увидел, что ему прислуживает девочка с банановой плантации. Она сказала:
— Я взяла вино у отца в комнате.
— Потихоньку?
— Нет, не совсем, — сказала она своим ровным, уверенным голосом.
Он сказал:
— Это очень мило с твоей стороны. Я уже забыл ту азбуку — как ты ее называла?
— Морзе.
— Правильно. Морзе. Три долгих стука и один короткий, — и сразу началось постукивание; постукивал священник у алтаря, в проходах между скамьями постукивали невидимки-молящиеся: три долгих стука и один короткий. Он спросил:
— Что это?
— Весть, — сказала девочка, строго, озабоченно и с интересом глядя на него.
Он проснулся, когда уже рассвело. Он проснулся с великой надеждой, но стоило ему увидеть тюремный двор, как надежда сразу, начисто исчезла. Этим утром его ждет смерть. Он съежился на полу с пустой фляжкой в руках и стал вспоминать покаянную молитву.
— Каюсь, Господи, прости мне все мои прегрешения… Я распинал тебя… заслужил твою страшную кару. — Он путал слова, думая о другом. Не о такой смерти возносим мы молитвы. Он увидел свою тень на стене — какую-то недоумевающую и до смешного ничтожную. Как глупо было думать, что у него хватит мужества остаться, когда все другие бежали. Какой я нелепый человек, подумал он, нелепый и никому не нужный. Я ничего не сделал для других. Мог бы и вовсе не появляться на свет. Его родители умерли — скоро о нем даже памяти не останется. Может быть, он и адских мук не стоит. Слезы лились у него по щекам; в эту минуту не проклятие было страшно ему, даже страх перед болью отступил куда-то. Осталось только чувство безмерной тоски, ибо он предстанет перед Богом с пустыми руками, так ничего и не свершив. В эту минуту ему казалось, что стать святым было легче легкого. Для этого требовалось только немного воли и мужества. Он словно упустил свое счастье, опоздав на секунду к условленному месту встречи. Теперь он знал, что в конечном счете важно только одно — быть святым.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Миссис Феллоуз лежала в душном номере гостиницы, прислушиваясь к звуку пароходной сирены, доносившемуся с реки. Видеть она ничего не могла, потому что лоб и глаза у нее были прикрыты платком, смоченным одеколоном. Она громко позвала:
— Милый! Милый! — но ответа не услышала. Ей казалось, будто ее похоронили заживо в большом железном фамильном склепе и она лежит одна под балдахином, на двух подушках. — Милый! — повторила она еще громче и прислушалась.