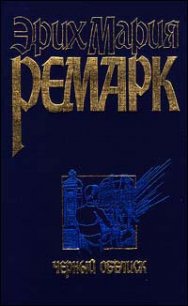На обратном пути (Возвращение)(др.перевод) - Ремарк Эрих Мария (онлайн книги бесплатно полные TXT) 📗
Сквозь кожу ботинок проникает дыхание травы, через шерстяные поры одежды чувствуется дуновение земли, волосы овевает потревоженное небо: ветер – и кровь, стремясь ему навстречу, стучится в стенки сосудов, кончики нервов напрягаются и дрожат, и вот я уже чувствую на груди лапки бабочек, и муравьиные шажки отдаются в полостях вен; потом волна становится выше, сопротивление тает, и я всего-навсего безымянный холмик, луг, земля.
Поднимаются и опускаются беззвучные земные токи, моя кровь вливается в них, ее уносит, она причастна всему. По теплому мраку земли вместе с голосами хрусталя и кварцев текут потоки, они в таинственных звуках тяготения, подчиняясь которому капли проникают между корней и собираются в тонкие струйки, ищущие выход к ключам. А потом ключи вновь выбиваются из-под земли; они в ручьях и реках, в сиянии берегов, в морском просторе, во влажно-серебристой дымке, которую солнце вновь возносит к облакам; они текут по кругу, все больше забирая от меня, вымывая меня в землю, в подземные потоки, медленно, без боли исчезает тело, его уже нет, только клетки, оболочка, тело стало журчанием подземных источников, разговором трав, дуновением ветра, шуршащей листвой, безмолвно звучащим небом. Луг приближается, прорастают цветы, покачиваются цветки, а я ушел в землю, забыт, растекся под маком и желтой калужницей, над которыми летают бабочки и стрекозы… Может, это последнее движение перед концом? Неужели это маки, травы? Ручейки меж корней деревьев? Но движение усиливается. Оно становится равномернее, переходит в дыхание и удары пульса; реки, деревья, листва, земля набегают и уносятся, уносятся волнами… Круговорот начинается заново, но не уносит, а прибивает, остается, становится священным трепетом. Ощущения, чувства, руки, тело: оболочка уже не пустая; свободно, легко, стремительно земля снова намывает мое тело – я открываю глаза.
Где я? Где только что был? Спал? Загадочное ощущение причастности не уходит, я прислушиваюсь, боясь пошевелиться. Но оно не исчезает, и все больше счастья и легкости, парящей, сияющей легкости; я лежу на лугу, бабочки улетели, колышется щавель, и солнечный жучок забрался на самый верх стебля, к одежде прицепились паутинки, парящее чувство не уходит, оно наполняет грудь, глаза, я шевелю руками, какое счастье! Поднимаю колени, сажусь, лицо мокрое, и только тут я чувствую, что плачу, бессмысленно плачу, словно многое ушло безвозвратно…
Какое-то время я отдыхаю. Затем встаю и иду на кладбище. До сих пор я еще там не был. После смерти Людвига сегодня я первый раз рискнул выйти на улицу.
Рядом идет старушка, она ведет меня к могиле Людвига. Могила за буками усажена барвинком. Не осевшая еще земля поднимается холмиком, к которому прислонились увядшие венки. Поблекшие золотые надписи на лентах не разобрать.
Я немного боялся сюда идти. Но тишина не пугает. Над могилами ветер, над свечами золотое сентябрьское небо, а в листве платанов поет дрозд.
Ах, Людвиг, я сегодня впервые почувствовал что-то вроде дома и мира, а тебя уже нет. Я пока еще боюсь в это поверить, пока еще думаю, что это слабость, усталость, но, может быть, когда-нибудь она превратится в уверенность; может, нам просто нужно ждать и молчать, и тогда все придет; может, единственное, что нас не оставило, это наше тело и земля; может, нужно только слушать их, идти за ними.
Ах, Людвиг, мы искали, искали, сворачивали не туда, падали, мы жаждали цели и спотыкались о самих себя, мы ничего не нашли, и ты надломился. Неужели нас теперь оживит, приведет домой дуновение ветра над травами, вечерний зов дрозда? Может, у облака на горизонте, у летнего дерева больше силы, чем у всей нашей воли?
Не знаю, Людвиг. Я пока еще не могу в это поверить, потому что надежды у меня уже не было. Но мы не знаем, что такое самоотверженность, не знаем ее силы. Мы знаем только силу принуждения.
А если бы и был путь, что мне до него, Людвиг?.. Без тебя…
Из-за деревьев медленно поднимается вечер. Он снова несет с собой тревогу и печаль. Я неотрывно смотрю на могилу. Шуршит гравий. Я поднимаю глаза. Георг Раэ. Он обеспокоенно смотрит на меня и уговаривает пойти домой.
– Давно тебя не видел, Георг, – говорю я. – Где пропадал?
Он делает неопределенный жест.
– За что только не брался…
– Ты ушел из армии? – спрашиваю я.
– Да, – жестко отвечает он.
Две женщины в трауре идут по дорожке между платанами. В руках у них маленькие зеленые лейки, они поливают цветы на старой могиле. Доносится сладкий дух желтофиоля и резеды.
Раэ поднимает глаза.
– Я надеялся найти остатки братства, Эрнст. А там только труха того чувства, что мы занимаемся одним делом, бледная карикатура на войну. Люди, которые думали, что, припрятав пару винтовок, спасут отечество; нищие офицеры, не знавшие, куда себя деть, кроме как непременно быть там, где шум; вечные наемники, у которых ничего не осталось, которые почти боялись, что их опять загонят в обычную жизнь, – последние, самые упорные шлаки войны. Еще парочка идеалистов и орава любопытных юнцов, искавших приключений. Все какие-то загнанные, озлобленные, отчаявшиеся, все друг другом пользуются. Ну вот, а потом…
Он какое-то время молчит, взгляд отрешенный. Я сбоку смотрю на его лицо. Нервное, измученное, под глазами глубокие тени. Георг берет себя в руки.
– Да почему бы и не сказать тебе, Эрнст? Сколько я носил это в себе. Как-то был бой. Ну, то есть, с коммунистами. И когда я увидел потом трупы рабочих, кое-кто еще в старых шинелях, военных сапогах, бывшие товарищи, что-то во мне надорвалось. Однажды я со своего самолета снял полроты англичан, мне это ничего не стоило, война есть война. А вот эти убитые товарищи в Германии, убитые бывшими товарищами… Всё, Эрнст!
Я невольно вспоминаю Вайля с Хеелем и киваю.
Где-то высоко завел трель зяблик. Солнце уже вечернее, в нем больше золота. Раэ перекусывает сигарету.
– Ну вот, а потом у нас вдруг пропали двое. Вроде как они собирались выдать, где находится склад оружия. И их без суда и следствия забили ночью в лесу прикладами. Они это называли «тайное судилище». А один из них был у меня на фронте унтер-офицером. Душа-человек. И я все бросил. – Он оглядывается. – Вот что из этого вышло, Эрнст. А тогда… тогда… когда мы уходили, какая была воля, какой задор! – Георг отбрасывает сигарету. – Черт возьми, куда все подевалось? – И через какое-то время тихо говорит: – Хотелось бы мне знать, Эрнст, как до такого могло дойти?
Мы встаем и по платановой аллее идем к выходу. Солнце играет в листьях и мелькает на наших лицах. Все какое-то нереальное – наши слова, теплый мягкий свет позднего лета, дрозды, холодный ветер воспоминаний.
– Что сейчас делаешь, Георг? – спрашиваю я.
Тростью он сбивает на ходу пушистые головки чертополоха.
– Все перепробовал, Эрнст, профессии, идеалы, политику, но я туда не гожусь. Сплошная спекуляция, недоверие, равнодушие и безграничный эгоизм, вот и все, больше ничего…
Я немного устал от ходьбы, и мы садимся. Поблескивают зеленым городские башни, дымятся крыши, из труб поднимается серебристый пар. Георг показывает туда:
– Они, как пауки, притаились там в своих конторах, магазинах, делах, каждый готов придушить другого. И что еще там над ними нависло – семьи, союзы, департаменты, законы, государство! Одна паутина наползает на другую. Конечно, можно жить и гордиться тем, что будешь кряхтеть сорок лет. Но на фронте я научился, что не сроки определяют жизнь. Зачем мне сорок лет ползти вниз? Я долгие годы все ставил на одну карту, и ставкой всегда была жизнь. Так что теперь не стану играть на пфенниги и мелочи.
– Последний год ты провел не в траншеях, Георг, – говорю я. – Может, у летчиков было иначе. А мы часто месяцами не видели ни одного врага, были всего-навсего пушечным мясом. Там нечего было ставить. Только ждать, когда получишь свою пулю.
– Я не про войну, Эрнст, я про юность и братство.
– Да, их больше нет.