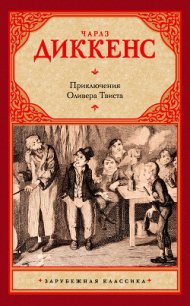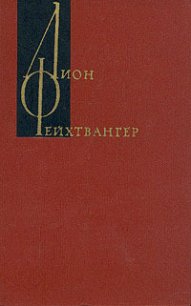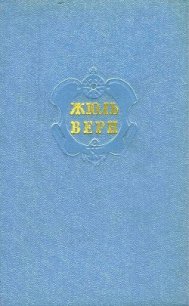Люсьена - Ромэн Жюль (список книг .txt) 📗
Час спустя я лежала в постели, и лихорадка так сильно трясла меня, что мне пришлось сжать свои колени руками: дрожь их была нестерпима.
Этот именно случай напоминает мне смятение, охватившее меня у Барбленэ. Но на этот раз я ни мгновения не думала о начале лихорадки. Тело мое не оставалось чуждым тому, что во мне происходило, далеко нет; в частности, отчетливо ощущаемый мной холод распространился по моим щекам, сжал мой стан, проник в меня до известной глубины и заструился по всем моим членам. Но я понимала, что дело здесь не в моем теле, самом по себе. Речь шла прежде всего о моем будущем: я чувствовала, что мое недомогание было наполнено им. Приближение болезни тоже сопровождается чувством будущего, но будущего мрачного, в котором бредешь ощупью.
Правда, в первом приступе лихорадки есть несомненно движение удовольствия и своего рода сладострастие, но оно обращается к нам, связывается с нашим телом. Лихорадочная дрожь, распространение которой мы чувствуем, напоминает нашу жизнь, которая под влиянием внезапного испуга убегает к своим истокам, к собственным корням, и зябко обвивается вокруг них.
Напротив, то, что меня охватило тогда, стремилось отделиться от меня и отделить меня от самой себя, вывести мою жизнь за пределы моей личности. Мое волнение, волнующая масса моей души, казалось, не стремились сосредоточиться под моим лбом или в моей груди – огражденных местах моего тела, но пытались вырваться из меня и унестись в тот как бы интеллектуальный пункт, который, мы чувствуем, образуется на уровне наших голов, когда собираются вместе несколько человек.
Лишь немного позже отчетливый образ водворился в центре смятения и осветил его.
Лицо Пьера Февра, его взгляд, его бюст. Складка его губ во время речи. Движение правого плеча в подкрепление фразы, вроде следующей: "Вероятно, лучше было бы, если бы в нем помещался маленький кабачок, обслуживающий укладчиков рельс и котельщиков".
Глаза Пьера Февра, черные, совершенно черные. Голова, немножко склоненная к плечу, в то время как взгляд как будто наслаждается далеким предметом. Иногда короткий взгляд в вашу сторону, чтобы удостовериться, доставила ли также и вам удовольствие мысль, которая только что доставила удовольствие ему самому.
Взгляд достаточно подвижный. Но это совсем не эгоистическая подвижность глаз, бегающих по предметам и поспешно взвешивающих их возможную выгоду. Нет! Подвижность изобретательная и бескорыстная.
Красота… но сначала его улыбка. Или, вернее, способ, каким более живая или более шаловливая, чем другие, мысль выскакивает из его глаз и разливается по всем складочкам, которыми покрывается тогда его лицо. Лицо Пьера Февра, вдруг источающее улыбки, как другое лицо источало бы слезы.
Красота, страшная красота на лице Пьера Февра.
И его смех, который я не слышу и не стремлюсь слышать, который я только готовлюсь услышать. Я представляю себе не его смех, но ожидание его смеха; душа моя сосредоточена, как душа ребенка, которому объявляют об удивительном фокусе и который весь настораживается, но почти желает, чтобы фокус никогда не был произведен – душа моя устрашена чрезмерностью наслаждения, которое ей предстоит.
Смех Пьера Февра, который преобразит жизнь.
Тогда мне пришлось сказать себе: "Я люблю Пьера Февра. Я влюблена в Пьера Февра". У меня оставалось еще достаточно свободы духа, чтобы изумиться способу, каким любовь проявлялась во мне.
Я очень часто думала о любви в конце своего детства. Я считала, будто два или три раза мне довелось испытать ее первое волнение. Чтение непрерывно исправляло или дополняло идею, которую я составила себе о любви. Мой инстинкт говорил мне о ней тоном настолько уверенным, что в иные дни разочарования или умственного возбуждения мне случалось думать так: "Оборот, который принимает моя жизнь, дает мне мало шансов познать настоящую любовь. Пусть. Я знаю все наперед. Любовь пережитая будет только мучительным осуществлением любви, известной мне из внутреннего опыта. Отказываясь от любви, я теряю мало и сохраняю в своем распоряжении на множество надобностей те силы души, которым женщины дают обыкновенно столь ограниченное употребление". Когда я доходила до конца своих мечтаний, я прибавляла: "Единственная вещь, которую я представляю себе довольно слабо, – это физическое обладание женщины мужчиной и ни с чем не сравнимое смятение души по поводу этого события. Впоследствии посредственные женщины, которых я превосхожу в стольких отношениях, обнаружат во мне, будут презирать во мне невежество по части этого капитального пункта и связанную с ним мою незрелость". И я осмеливалась говорить себе: "Нужно бы испытать это, хотя бы один раз, вдали отсюда, с каким-нибудь незнакомцем, который не знал бы также меня, скажем, во время путешествия, с завуалированным лицом, и тотчас все забыть за исключением самой существенной и в некотором роде отвлеченной стороны такого эксперимента". Затем я торопливо переходила к другим мыслям.
Несомненно, я любила Пьера Февра. Сила моего смятения ясно доказывала мне, что речь шла о неясной и чистой форме любви, а не о каком-нибудь более смешанном чувстве.
Что предметом моей любви был Пьер Февр, – это обстоятельство не заключало в себе ничего необычайного. Рассматриваемое со стороны, оно могло даже показаться до такой степени наперед ясным, до такой степени обусловленным внешними данными, что делалось почти унизительным для меня. Тем не менее, в общем, я была изумлена. Я не узнавала любви в момент, когда я почувствовала себя вынужденной назвать ее по имени.
Что же было удивительного в том, что я испытывала? Моя мнимо лихорадочная дрожь, заполнение моего сознания образом Пьера Февра, моя жизнь, внезапно выхлестнутая из своих границ – так это и есть та страсть, какую рисуют себе, все в своем воображении? Да, в отношении внутренних событий, в отношении душевного настроения. Но если события и характер подобного кризиса легче поддаются изложению, чем остальное, и кажутся занимающими наибольшее место в воспоминании, то все же в самый момент этого кризиса я отчетливо чувствовала, что не они были самым ценным в нем, и еще сегодня я отчетливо чувствую, что не они являются наиболее заслуживающими воспроизведения в памяти.