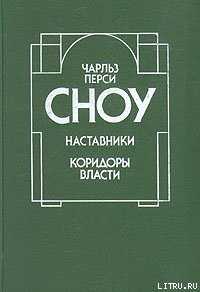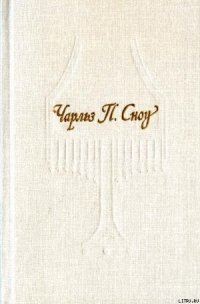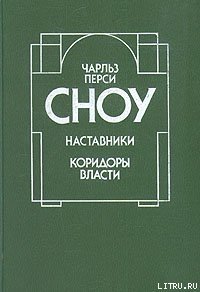Наставники. Коридоры власти (Романы) - Сноу Чарльз Перси (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Передо мной стояло две задачи — во-первых, по возможности оправдать Роя и, во-вторых, не навредить Джего. Я открыл Винслоу только часть правды, а кое-что счел за благо скрыть. Я сказал, что никогда не видел Роя в таком состоянии. Сказал, что его вспышка просто ошеломила меня. И вместе с тем объяснил, что Роя измучили страдания ректора — из-за этого-то он, по-видимому, и сорвался.
— Его считают серьезным ученым, — проговорил Винслоу. — И мне всегда казалось, что он очень приятный молодой человек — хотя одно время меня, признаться, несколько смущало его поведение.
— Я уверен, что в его поведении не было ничего недостойного.
— Вы знаете его лучше, чем я, — сказал Винслоу. — Надеюсь, вы правы. И мне кажется, что вам надо убедить его как следует отдохнуть этим летом.
Винслоу прочитал записку Роя. Потом спросил:
— Так, значит, эти слухи имеют некоторые основания?
— Я ведь не читал его записку, — ответил я. — Но нисколько не сомневаюсь, что слухи сильно преувеличены. Нельзя забывать, что их распространяют люди, которых гложет зависть.
— Возможно, — сказал Винслоу. — Вполне возможно. Однако если они получат это свидетельство, то член Совета Рой Калверт едва ли удержится в нашем колледже. Его наверняка отсюда выживут.
— И вам этого хочется?
— Я не утверждаю, что мне этого хочется. С ним иногда приятно поговорить, и многие считают его серьезным ученым — чего никак не скажешь про некоторых наших коллег. Нет, я не утверждаю, что мне этого хочется. Но мне, знаете ли, не хочется, чтобы ваш кандидат стал ректором.
— Вы имеете в виду, что если вы обнародуете эту записку, то партия Джего уменьшится?
— Совершенно верно.
— Я уверен, что вы этого не сделаете, — сказал я.
— Почему же?
— Да потому, что вы знаете, из-за чего Калверту было сегодня так тяжко. Уже одного этого достаточно…
— А если конкретней?
— Могу и конкретней. Мы оба знаем, что Калверт был сегодня не в себе. Его истерзало сострадание — он видел, что вы мучаетесь, а другие этому радуются. Кто, кроме него, отнесся к вам с сочувствием?
— Меня не интересует, сочувствуют мне люди или нет, — отрезал Винслоу.
Тогда я сказан:
— Кто, кроме него, посочувствовал горю вашего сына? Вы прекрасно знаете, что Калверта очень расстроила его неудача. А кто еще отнесся с сочувствием к вашему сыну?
Я решил извлечь пользу из его несчастья. Он казался совсем обессиленным. Он опустил голову и долго молчал. Потом измученно пробормотал:
— Так что мне с этим делать? — Кивком головы он указал на записку.
— Это уж вы решайте сами, — сказал я.
— Наверно, лучше всего отдать ее вам, — проговорил Винслоу.
Он даже не повернул головы, чтобы посмотреть, как я бросил записку в камин.
Глава двадцать четвертая
СПОР В ЛЕТНИХ СУМЕРКАХ
Распрощавшись с Винслоу, я пошел к Рою. Он лежал у себя в кабинете на кушетке, умиротворенный и успокоившийся.
— Сильно я всем навредил? — спросил он.
Он был счастлив. Меня это, впрочем, ничуть не удивило — я превосходно изучил все стадии его недуга: они чередовались в неизменной последовательности. Первая стадия — тоскливая подавленность — продолжалась обыкновенно несколько недель или даже месяцев; потом ее сменяла вторая, при которой подавленность перемежалась иногда вспышками лихорадочного возбуждения, — их-то мы с Роем больше всего и боялись. Возбуждение длилось недолго и всегда завершалось каким-нибудь неистовым поступком, вроде сегодняшнего. После этого болезнь отступала, и Рой успокаивался.
Он знал, что следующий приступ начнется только через несколько месяцев. В первые годы нашей дружбы — ему тогда было чуть больше двадцати — депрессия мучила его гораздо чаще, чем сейчас. Но постепенно промежутки между приступами удлинялись, и ровное, веселое настроение не покидало его многие месяцы. Вот и сейчас он понимал, что приступ повторится теперь очень не скоро.
Я чувствовал себя усталым и угнетенным. Порой мне казалось, что я несу слишком тяжкое бремя, — да и за какие грехи? Я сказал Рою, что не могу вечно следить за ним и улаживать его отношения с людьми.
Его терзали угрызения совести. Немного помолчав, он спросил:
— Я здорово навредил Джего?
— Не думаю.
— Как же тебе удалось исправить то, что я натворил? Ты все-таки удивительно искусный политик.
Я покачал головой.
— Это было нетрудно. Винслоу считает, что на него никто не может повлиять, но он ошибается.
— Именно.
— Мне, правда, пришлось применить запрещенный прием, а это не слишком-то приятно. Он ненавидит Джего. Но у него сейчас нет духовных сил на ненависть: он думает только о сыне.
— Именно, — повторил Рой. — Можно сказать, что мне повезло.
— Я тоже так считаю.
— Я не простил бы себе, если бы помешал Джего пройти в ректоры, — сказал Рой. — Мне очень хочется загладить свою вину, старина. И уж во всяком случае, теперь я не доставлю вам всем никаких хлопот.
Вечером Рой заказал бутылку вина, чтобы мы выпили за здоровье Джего. Льюк спросил его, какое событие он хочет отметить: ему надо было внести Роев заказ в «Винную книгу». Рой усмехнулся и ответил:
— Я хочу выпить за его здоровье, потому что чуть было не оказал ему медвежью услугу.
— Вот уж никогда не поверю, что вы способны оказать мне медвежью услугу! — воскликнул Джего. — Я ведь прекрасно вижу — вы очень по-доброму ко мне относитесь, хотя и не знаю за что. Может быть, за то, что я не обижаюсь на вас, когда вы меня передразниваете?
Рой передразнивал Джего не только на вечеринках. Даже в его последней реплике послышались сентенциозно многозначительные интонации старшего наставника — их уловили все сидящие за столом, и Деспард-Смит невольно усмехнулся.
Выходя из профессорской, Артур Браун раздумчиво спросил меня:
— Как вы думаете, что Калверт имел в виду, когда сказал про медвежью услугу? Последнее время я отношусь к его словам вполне серьезно, или, говоря иначе, не ищу в них подвоха. А ведь еще два-три года назад почти во всех его высказываниях таилась какая-то не слишком уместная ирония. Но теперь я за него не тревожусь. Он стал гораздо уравновешенней. И по-моему, скоро окончательно остепенится.
Я решил не переубеждать Брауна. Пусть благожелательно и спокойно размышляет, предвосхищая догадки будущих наставников нашего колледжа, что же именно означает сегодняшняя запись в «Винной книге», подумалось мне.
Я сказал ему, что на этой неделе попытаюсь разобраться в истории с Льюком. Фрэнсис Гетлиф вернулся утром в Кембридж, чтобы принять участие в заседании Совета, и Кэтрин, его жена, пригласила меня на обед — первый раз после нашей январской размолвки. Я решил не упускать такой возможности: во время дружеского обеда мне наверняка удастся спокойно рассказать Фрэнсису об угрозе Найтингейла.
Гетлифы жили в собственном доме на улице Чосера; когда я пришел, они встретили меня так же радушно, как в былые времена. Фрэнсис принялся разливать по бокалам херес, и, внимательно посмотрев на него, я лишний раз убедился, что дома он держится гораздо естественней и проще, чем в колледже. Передавая жене бокал, он глянул на нее с искренней любовью; от его чопорной, но нервически напряженной надменности, которую он напускал на себя, разговаривая с коллегами, не осталось и следа: он показался мне доброжелательным, спокойным, даже благодушным. А Кэтрин, та просто лучилась приветливым счастьем.
Детей уже уложили спать. Кэтрин говорила о них с огромным удовольствием — и в то же время старалась показать мне, что ей вовсе не хочется утомлять меня этим разговором. Рассказывая о детях, Кэтрин сидела в кресле с видом почтенной матроны — и как же сильно отличалась она от той порывистой, всегда чем-то взволнованной девушки, с которой я встретился десять лет назад в доме ее отца на Брайенстон-сквер! Меня привел к ним ее брат Чарльз, мой самый близкий лондонский друг тех лет, и это был первый великосветский дом, в который я попал.