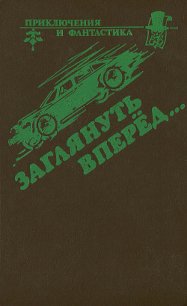Кентервильское привидение (сборник) - Уайльд Оскар (книги онлайн без регистрации полностью .txt) 📗
Я не спорю с тем, что интеллектуальный идеал трудно достижим, и уж особенно с тем, что потребуются, вероятно, долгие годы, чтобы он приобрел привлекательность в глазах толпы. Питать симпатии к обездоленным куда как просто. Питать симпатии к мысли намного труднее. Ведь обычные люди очень плохо себе представляют, что такое мысль, и, похоже, уверены, будто вынесли той или иной идее смертный приговор, объявив ее рискованной, хотя лишь такие идеи и обладают истинной интеллектуальной ценностью. Идея, не таящая в себе риска, вообще не заслужила того, чтобы называться идеей.
ЭРНЕСТ. Вы не перестаете удивлять меня, ДЖИЛБЕРТ. То вы объявляете, что всякое искусство по своей сути аморально. А то, кажется, хотите объявить по сути своей рискованной всякую мысль.
ДЖИЛБЕРТ. Но ведь на практике так оно и есть. Благоденствие общества покоится на привычке и неосознанном инстинкте, а основой основ его стабильности как здорового организма является полное отсутствие у его граждан какой бы то ни было умственной жизни. Огромное большинство людей, прекрасно это зная, естественно, привержены той великолепной системе, которая их возвышает настолько, что приравнивает к машинам, и они с такой яростью восстают против проявлений интеллекта в любом затрагивающем жизнь вопросе, что так и хочется назвать человека разумным животным, всякий раз утрачивающим почву под ногами, если ему необходимо действовать согласно требованиям разума. Оставим, впрочем, практическую жизнь и не будем больше касаться злополучных филантропов – пусть на них распространится действие законов, выведенных мудрецом с Желтой реки, этим Чжуан-цзы с его миндальными глазами, доказавшим, что такие вот неугомонные хлопотуны о благе и убили простое, нерассуждающее стремление к добру, которым наделен человек. Даже говорить о них скучно, и мне уже очень хочется вернуться в ту область, где критика свободна.
ЭРНЕСТ. В область интеллекта?
ДЖИЛБЕРТ. Да. Вы помните, я говорил, что критик – личность по-своему столь же творческая, как и художник, чьи произведения могут, в сущности, обладать ценностью только в той мере, в какой пробуждают у критика какое-то особое движение мысли и чувства, которое он способен воплотить в форме не менее законченной, а может быть, и более замечательной и сделать красоту еще прекраснее, еще совершеннее, потому что она у него предстанет по-новому выраженной. Мне кажется, вы восприняли эту мысль несколько скептически. Возможно, я ошибаюсь.
ЭРНЕСТ. Настоящего скептицизма она у меня не вызвала, однако должен заметить, что произведение критика, каким вы его характеризуете – а в этом случае оно, несомненно, является творческим, – мне представляется по необходимости чисто субъективным, меж тем как величайшие творения искусства всегда объективны, точнее, объективны и надличностны.
ДЖИЛБЕРТ. Различие между произведением объективным и субъективным полностью исчерпывается внешней его формой. Оно случайно, а не существенно. Всякое художественное творчество до конца субъективно. Самый пейзаж, который рассматривал Коро, по собственному его свидетельству, является только настроением, переживаемым им самим, а великие персонажи греческой и английской драмы, которые, как нам кажется, обладают независимым существованием, вовсе не связанным с жизнью создавших их поэтов, окажутся, если хорошенько поразмыслить, всегда лишь самими этими поэтами – не такими, какими те себя считали, а такими, какими те себя не считали и какими, однако же, странным образом на миг сделались, оттого что они рассуждали именно так. Мы никогда не можем выйти за пределы самих себя, и в творчестве не может быть ничего такого, что не заключено в творце. Я бы даже сказал так: чем объективнее кажется нам произведение, тем оно на деле субъективнее. Быть может, Шекспир и вправду встречал на лондонских улицах Розенкранца и Гильденстерна или видел, как бранятся на площади слуги из враждующих семейств, однако Гамлет вышел из его души и Ромео был рожден его страстью. Оба они были частью его природы, которой он придал зримые формы, они были импульсами, так сильно в нем выявившимися, что он, точно бы против своей охоты, оказался вынужден облечь их в плоть и кровь, отправив их странствовать не по прозаичной обыденной жизни, где многое их сковывало бы, стесняло и мешало достичь вершин, а по той возвышенной стезе искусства, где Любовь и впрямь может найти высшее свое торжество в Смерти, и можно пронзить шпагой подслушивающего, который прячется за ковром, и вступить в схватку с врагом в свежевыкопанной могиле, и заставить преступного короля испить чашу собственной вины, и беседовать с призраком своего отца, в полном боевом облачении являющимся при лунном свете из одной окутанной таинственным туманом стены и исчезающим в другой. Реальное действие не принесло бы Шекспиру удовлетворения и не позволило бы выразить себя, поскольку оно ограниченно; и подобно тому как он достиг всего, ибо ничего не делал, пьесы показывают нам его полностью, потому что он в них никогда не говорит нам о себе, – мы здесь видим его характер, его истинную душу куда яснее, чем даже в этих странных, полных излишества сонетах, где умеющим видеть он открыл тайный уголок своего сердца. Да, объективность формы достигается крайней субъективностью содержания. Человек менее всего оказывается самим собой, говоря о собственной персоне. Позвольте ему надеть маску, и вы услышите от него истину.
ЭРНЕСТ. Стало быть, критик, связанный субъективной формой, с неизбежностью менее способен выразить самого себя, нежели художник, в чьем распоряжении всегда остаются формы надличностные и объективные?
ДЖИЛБЕРТ. Вовсе не обязательно и даже совсем напротив, если только он признает, что критика в любой ее форме является на высшей своей ступени не более как настроением и что мы всего правдивее перед самими собой, когда мы непоследовательны. Критик-художник, последовательный лишь в признании красоты всех вещей, всегда ищет свежих впечатлений, дознаваясь, в чем тайна обаяния любой школы, и, может быть, преклоняя колена перед чужими алтарями или же, если так велит его фантазия, осмеивая странных новых богов. То, что другие именуют прошлым, вне всяких сомнений, скажет что-то о них самих, но о конкретном человеке не скажет ничего. Если человек вглядывается в свое прошлое, он не заслуживает никакого будущего. Сумев выразить какое-то настроение, незачем к нему возвращаться. Вы напрасно смеетесь, это так. Еще вчера нас зачаровывал реализм. Он создавал nouveau frisson [37], к чему и стремился. Но мы разобрались в его природе, и он нам прискучил. И еще не успел кончиться отпущенный ему день, как в живописи заявила о себе школа света, а в поэзии школа символов, и в истерзанной России неожиданно возродился дух Средневековья, захватив нас на минуту своим бескомпромиссным восприятием жизни как боли, – я разумею не исторические Средние века, но определенный душевный настрой. Сегодня же мы жаждем романтического, и вот уже его ветер всколыхнул листву растущих в долине рощ, а на залитой солнцем вершине холма явилась Красота, неслышно по ним ступая в своем роскошном одеянии. Конечно, еще дотлевают старые формы творчества. С тоскливым однообразием художники еще стараются правдиво изобразить самих себя или друг друга. Но Критика всегда в движении, и критики всегда стремятся идти дальше.
Критик и вообще не связан субъективной формой выражения. В его распоряжении и метод драмы, и метод эпоса. Он может прибегнуть к диалогу, как тот, кто заставил Мильтона разговаривать с Марвеллом о сущности комедии и трагедии, а Сидни – размышлять вслух о природе литературы, расположившись с лордом Бруком под сенью пенсхерстского дуба; он может избрать и повествовательную форму, к которой склонен Пейтер, в каждом из своих воображаемых портретов – кажется, так и названа его книга? – под видом свободной ассоциативной прозы предлагающий нам образчик тонкой и изящной критики, касающейся то живописи Ватто, то философии Спинозы, то языческих элементов в искусстве Раннего Ренессанса, то истоков Aufklarung, этого просветительства, в прошлом столетии охватившего Германию и столь много значившего для нашей культуры, – может быть, этот его очерк всего богаче мыслями. Диалог, этот прекрасный жанр, который облюбовали творческие критики всего мира от Платона до Лукиана, и от Лукиана до Джордано Бруно, и от Бруно до великолепного старого язычника, так восхищавшего Карлейла, – диалог, конечно, всегда останется формой выражения, особенно привлекательной для мыслителя. В диалоге можно и выразить себя, и утаить то, что не хочется выставлять на всеобщее обозрение; он придает форму любой фантазии и достоверность любому переживанию. Диалог позволяет рассмотреть предмет со всех точек зрения, так что он нам предстает во всей своей целостности, подобно тому как показывает нам то или иное явление скульптор, добиваясь полноты и живой верности впечатления за счет того, что главная мысль в своем развитии выявляет и множество побочных ответвлений, которые, в свою очередь, позволяют глубже раскрыть эту основную идею, и положенный в основу план обретает завершенность благодаря добавлениям, появляющимся уже в ходе его осуществления и дающим вместе с тем почувствовать непосредственность этого процесса и его чарующую непредугаданность.
37
Притягательное ощущение новизны (фр.).