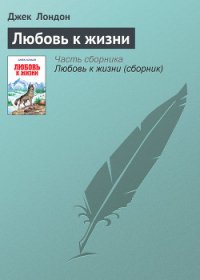Джон ячменное зерно. Рассказы разных лет - Лондон Джек (читать книги регистрация txt) 📗
В других домах перед самым моим носом захлопывали дверь, обрывая мои учтивые и скромные просьбы пожертвовать на хлеб. В одном доме мне даже не открыли! Я стоял на крыльце и стучал, а хозяева глядели на меня из окошка. Они даже подняли к окну толстого мальчугана, который через плечи старших рассматривал бродягу, желающего поесть.
Похоже было, что придется обратиться за милостыней в кварталы бедняков. Бедняки — последнее верное прибежище голодного бродяги. На бедняка всегда можно рассчитывать: он никогда не прогонит голодного! Сколько раз в Соединенных Штатах мне отказывали в куске хлеба в богатых домах на высоком холме и всегда давали поесть у ручья или болота, в маленьких лачужках с разбитыми окнами, заткнутыми тряпьем, откуда выходила хозяйка с изможденным от работы лицом! О филантропы! Идите, поучитесь у бедняков; только бедняки милосердны! Они подают и отказывают не от избытка. У них нет избытка! Они подают то, в чем сами нуждаются, и порой жестоко нуждаются! Они никогда не отказывают. Кость, брошенная собаке, — не милосердие. Милосердие — это кость, разделенная с собакой, когда дающий так же голоден, как собака!
Мне особенно запомнился один дом, из которого меня выпроводили в тот вечер. На крыльцо выходили окна столовой, сквозь стекла я увидел человека, уплетавшего пирог — большой кусок пирога с мясом. Я стоял в раскрытых дверях, и он, разговаривая со мной, продолжал есть. Он пребывал в полном благополучии, и это благополучие вызвало в нем презрение к менее благополучным ближним.
Он оборвал мою просьбу дать мне хлеба, фыркнув:
— Не верю, что ты хочешь работать!
Это было ни к селу ни к городу. Я ведь ни словом не заикнулся о работе! Речь шла о «хлебе». Я и в самом деле не собирался работать. Мне нужно было уехать с ночным поездом на запад.
— Ты же не будешь работать, даже если бы работа нашлась! — дразнил он меня.
Я взглянул на его жену — женщину с кротким лицом — и понял, что если бы не присутствие этого цербера, я получил бы кусок пирога. Но цербер весь зарылся в пирог; я видел, что его нужно умилостивить, иначе я не получу ни крохи. Вздохнув, я решил стерпеть его проповедь о работе.
— Конечно, я хочу работать! — солгал я.
— Не верю! — хрипел он.
— А вы испытайте меня! — продолжал я лгать.
— Ладно, — ответил он. — Приходи на угол такой-то и такой-то улицы (я уж забыл, какой именно) завтра поутру. Знаешь, там, где развалины сгоревшего дома, — я поставлю тебя разбирать кирпичи!
— Хорошо, сэр, завтра буду на месте!
Хрюкнув в ответ, он продолжал есть. Я ждал. Через несколько минут он поднял на меня глаза, в которых было отчетливо написано: «А я думал, ты уже убрался!», и спросил:
— Ну?..
— Я… Я жду чего-нибудь поесть! — смиренно вымолвил я.
— Я так и знал, что ты не хочешь работать! — проревел он.
Он был прав, разумеется; к этому правильному выводу он пришел, должно быть, путем чтения мыслей, ибо логически он ни из чего не вытекал. Но нищий у дверей должен вести себя смиренно, и я принял его логику, как раньше проглотил его нравоучение.
— Видите ли, я уже сейчас голоден, — кротко ответил я. — Завтра утром я буду еще голоднее! Подумайте, как же я буду голоден после целого дня работы с кирпичами! Если вы дадите мне чего-нибудь поесть сегодня, то я завтра буду таскать кирпичи во как!
Он спокойно взвешивал мои доводы, не переставая уплетать пирог; жене явно хотелось замолвить за меня словечко, но она сдержалась.
— Знаешь, что я сделаю? — сказал он между глотками. — Ты приходи завтра утром на работу, и в полдень я выдам тебе аванс, достаточный, чтобы ты пообедал. Вот и станет понятно, действительно ли ты намерен работать.
— Пока что… — начал было я, но он перебил меня:
— Если я тебя сейчас накормлю, только я тебя и видел! Знаю я вашего брата. Ты посмотри на меня. Я никому не должен. Я никогда не унижался до того, чтобы просить хлеба. Я всегда зарабатывал на свое пропитание! Вся твоя беда в том, что ты ленив и распущен. Я вижу это по твоему носу. Я честно трудился, я сделал из себя то, что ты видишь. И ты добьешься того же, если будешь честно трудиться.
— Как вы? — спросил я.
Увы, мрачная, заскорузлая душа этого человека была чужда юмору.
— Да, как я, — ответил он.
— И это вы посоветуете любому?
— Да, любому и каждому, — уверенно ответил он.
— Но если все станут такими, как вы, — сказал я, — то позвольте заметить вам, что некому будет бросать для вас кирпичи.
Готов поклясться, что в глазах его жены мелькнула искорка смеха! Что до него, то он испугался, но чего? Страшной ли перспективы жить среди исправившихся людей, когда не останется никого, чтобы таскать кирпичи, или же моей наглости — этого мне так и не довелось никогда узнать.
— Некогда мне болтать с тобой! — рявкнул он. — Пошел прочь, неблагодарный щенок!
Я переступил с ноги на ногу в знак готовности убираться и спросил:
— Стало быть, мне не дадут поесть?
Он вдруг вскочил. Это был крупный мужчина. Я был в чужом краю, и «Дядя Закон» разыскивал меня. Я поспешно убрался. «Но почему я неблагодарный? — спрашивал я себя, захлопывая калитку. — Какого черта он назвал меня неблагодарным?» Я оглянулся: он еще виднелся в окне и… уплетал пирог.
Тут я, признаться, пал духом. Я миновал много дверей, не решаясь постучать. У всех домов был одинаковый вид: ни один не выглядел приветливо. Пройдя с полдюжины кварталов, я стряхнул с себя уныние и собрал все свое мужество. Ведь попрошайничество было для меня игрой, и, если мне не нравятся карты, я могу сдать снова. Я решил постучаться в первый же дом. Приблизившись к нему в сгустившихся сумерках, я обошел кругом, ища кухонной двери.
Я легонько постучал, и, когда увидел доброе лицо женщины средних лет, вышедшей на мой стук, меня словно осенило: в голову пришла «история», которую ей следовало рассказать. Надобно вам знать, что успех попрошайки зависит от его умения рассказать хорошую «историю». Первым делом в первое же мгновение попрошайка «примеривается» к избранной жертве. Затем — рассказывает «историю», способную подействовать на ее ум и темперамент. Здесь-то и кроется главная трудность: в момент «примеривания» к жертве он уже должен начатьрассказывать свою повесть. У него нет ни минуты на подготовку: с молниеносной быстротой раскусив жертву, он должен придумать сказку, которая бы безотказно подействовала. Удачливому бродяге надо быть артистом. Ему следует творить легко и молниеносно, притом тему почерпнуть не из запасов своего воображения, а прочитать ее на лице особы, открывшей дверь, будь то мужчина, женщина или дитя, человек ласковый или хмурый, щедрый или скупой, добродушный или сварливый, иудей или варвар, чернокожий или белый, настроенный братски или с расовыми предрассудками, провинциал или столичный житель, или еще кто-нибудь… Мне не раз приходило в голову, что своим успехом писателя я в значительной мере обязан школе, которую прошел в дни своего бродяжничества. Чтобы добывать хлеб насущный, я вынужден был сочинять правдоподобные рассказы. У черного хода, под давлением неумолимой нужды, развивается та убедительность и искренность, которые требуются от короткой новеллы. Я думаю, что и реалистом меня сделала моя бродяжническая выучка. Реализм — единственный товар, который можно обменять у кухонных дверей на кусок хлеба!
Искусство в конце концов есть лишь усовершенствованное лукавство, а лукавство часто делает ненужной «историю». Помню, как однажды я лгал в полицейском участке в Виннипеге, в Манитобе. Я ехал на запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Разумеется, полиции нужна была моя «история», и я рассказал ее им с места в карьер. Это были сухопутные крысы, из самых недр материка. Что в данном случае могло быть лучше «морской истории»? На морской сказке они никак не могли бы поймать меня! Вот я и рассказал жуткую повесть моей жизни на дьявольской посудине «Гленмор». (Я как-то видел корабль «Гленмор», стоявший на якоре в заливе Сан-Франциско.)