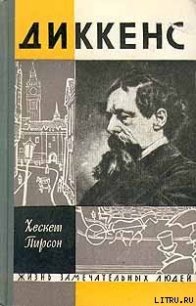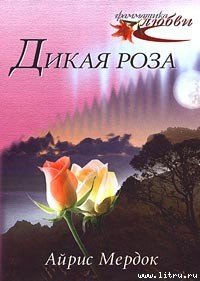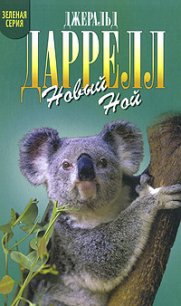Черный принц - Мердок Айрис (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗
Естественная тенденция человеческой души – охрана собственного «я». Каждый, заглянув внутрь себя, может увидеть катаклическую силу этой тенденции, а результаты ее у всех на виду. Мы хотим быть богаче, красивее, умнее, сильнее, любимее и по видимости лучше, чем кто-либо другой. Я говорю «по видимости», ибо средний человек хоть и желает реального богатства, обычно стремится только к видимой добродетели. Он инстинктивно знает, что настоящее добро есть бремя слишком тяжкое и что стремление к нему может затмить обыкновенные желания, которыми жив человек.
Конечно, изредка и на очень краткий миг даже худший из людей может устремиться к добру. Притягательная сила добра знакома каждому художнику. Я пользуюсь здесь словом «добро», как покровом. Что сокрыто под ним, знать хотя нам и дано, однако не может быть названо. Но спасает нас от гибели в хаосе самоубийственного младенческого эгоизма не магнетизм этой тайны, а то, что высокопарно именуется «долгом», а точнее, называется «привычкой». Счастлива та цивилизация, которая с детства приучает людей хотя бы некоторые из естественных проявлений личности считать немыслимыми и недопустимыми. Однако привычка эта, которой при благоприятных условиях может хватить на всю жизнь, оказывается лишь поверхностной там, где начинаются ужасы: на войне, в концентрационном лагере, в заточении семьи и брака.
Эти замечания мне хотелось предпослать анализу моих последних (условно говоря) поступков, который я теперь, любезный друг, разверну перед вами. В том, что касается Рейчел, я руководствовался смешанными и не слишком высокими побуждениями. Поворотным моментом было, я думаю, эмоциональное письмо Рейчел. Какими опасными орудиями бывают письма! Хорошо, что они теперь выходят из моды. К письму возвращаются еще и еще, его толкуют то так, то эдак, оно будит фантазию, родит мечты, оно преследует, оно служит уликой. Я уже много лет не получал ничего, что хотя бы отдаленно заслуживало названия любовного письма. То обстоятельство, что это было именно письмо, а не высказывание viva voce [17], давало ему надо мной особую абстрактную власть. Мы часто совершаем в жизни важные шаги, оказываясь в условиях обезличенности. Вдруг нам представляется, что мы что-то олицетворяем собой. Это может служить нам источником вдохновения, а может быть и поводом для самооправдания. Страстный тон ее письма сообщил мне чувство собственной значительности, энергию, чувство роли.
Кроме того, как я уже говорил, меня соблазняла мысль рассчитаться с Арнольдом, заведя от него секрет. Такое желание тоже, как правило, не доводит до добра. Исключая кого-то из круга посвященных в тайну, мы тем самым хотим унизить его. Моя злость на Арнольда не ограничивалась сферой нашего личного, старинного соперничества. Она проистекала также из потрясения, испытанного мною при виде Рейчел на кровати в затененной комнате, – Рейчел с лицом, закрытым простыней. В тот миг у меня в душе родилась к ней глубокая жалость – единственное, правда, как всегда, оскверненное высокомерием, но все же относительно чистое чувство в составе всей амальгамы. Поверил ли я Арнольду, что это «несчастный случай»? Может быть. Может быть, сквозь мрак моей эгоистической жалости я уже начинал видеть Рейчел глазами Арнольда – как слегка истеричную и не всегда правдивую пожилую женщину. Общаясь с супругами, невозможно соблюдать нейтралитет. Сила их отношения друг к другу тянет симпатии третьего лица то в одну, то в другую сторону. Кроме того, я досадовал на Рейчел за то, что она поставила меня в смешное положение. Того, по чьей вине страдает наше достоинство, нам особенно трудно простить.
Тщеславие и неуверенность связывали меня с Рейчел, а кроме того – зависть (к Арнольду), жалость, нечто вроде любви и, безусловно, перемежающаяся игра физического желания. Как я объяснял, я уже тогда был, в общем-то, равнодушен к телу – в чем, разумеется, нет особой моей заслуги. Я соприкасался с телами поневоле, но и без явного отвращения, в тесных вагонах метро. Но так или иначе я не придавал особого значения этим вместилищам души. Для меня существовали лица моих знакомых, а остальное могло быть какой-нибудь протоплазмой. Щупать и глазеть было мне не свойственно. Вот почему мне было интересно обнаружить, что меня тянет поцеловать Рейчел, тянет, после значительного перерыва, поцеловать какую-то определенную женщину. В этом была для меня заманчивая сторона новой роли. Однако во время того поцелуя у меня не было мысли идти дальше. То, что произошло потом, носило характер непредумышленный и запутанный. Я, разумеется, не думал отказаться от ответственности и ожидал серьезных последствий. И не ошибся.
Боюсь, я до сих пор не сумел передать, в чем состояла особенность моих отношений с Арнольдом. Попробую, пожалуй, еще раз. Я, как уже говорилось, его открыл и был поначалу его покровителем. Он оставался моим благодарным протеже! Вспоминаю, что относился к нему тогда немножко как к любимой собачке (у Арнольда лицо терьера). У нас были даже свои «собачьи» шутки, ныне погибшие для истории. И только потом, постепенно в нашу дружбу проник яд, зароненный главным образом его (мирским) успехом и моими (мирскими) неудачами. (Как трудно даже лучшим из нас сохранять равнодушие к миру!) Но и тогда мы еще в основном держались в отношении друг друга по-джентльменски. То есть я изображал снисходительность, а он – почтение, которые мы отчасти испытывали и на самом деле. Подобное притворство играет важную роль в этой несовершенной жизни. В нашей дружбе не было места равнодушию. Мы думали друг о друге постоянно. Он был для меня (разумеется, не в том смысле, какой имел в виду Фрэнсис Марло) самым важным человеком. И это кое-что да значит, ведь у меня было много знакомых мужчин – сослуживцы вроде Хартборна и Грей-Пелэма, литераторы и журналисты, которых я здесь не называю, так как они не являются действующими лицами этой драмы. Едва ли будет преувеличением сказать, что я был очарован Арнольдом. Наши отношения были не гладкими, не простыми, они давали мне чувство подлинной жизни. Разговоры с ним всегда будили у меня свежие мысли. И одновременно, как это ни парадоксально, я подчас ощущал его как эманацию моей собственной личности, как мое отчужденное, заблудшее alter ego. Он смешил меня, смешил до глубины души. Мне нравилась его веселая лоснящаяся собачья физиономия и светлые иронические глаза. Держался он всегда колюче – немного поддразнивая, немного задираясь, немного (не могу обойтись без этого слова) флиртуя со мной. Он отдавал себе отчет, что олицетворяет в наших взаимоотношениях сыновнее начало, несущее разочарования и некоторую угрозу. Эту роль он играл, забавляясь, остроумно и по большей части беззлобно. Только уже в последние годы, после нескольких открытых столкновений я начал воспринимать его как источник боли и вынужден был от него немного отдалиться. Любое его замечание стало казаться мне «шпилькой». По мере того как проходили годы, а великий миг в моей жизни все не наступал, меня стал больше и больше раздражать легкий успех Арнольда.
Справедлив ли я к нему как к писателю? Быть может, нет. Кто-то сказал, что «все писатели-современники нам либо друзья, либо враги»; и действительно, быть объективным к ныне живущим трудно. Досада, с какой я, признаюсь, читал всякую благоприятную рецензию на очередную книгу Арнольда, безусловно, имела и низменные источники. Но я делал попытки разумно осмыслить его творчество. Вероятно, больше всего мне не нравилась его болтовня. Писал он очень небрежно. Но болтовня шла не от неряшливости, это была одна из сторон его «метафизики»! Арнольд все время старался завоевать мир, излившись на него, как переполнившаяся ванна. Такой вселенский империализм был абсолютно чужд моим собственным, гораздо более строгим представлениям об искусстве как о сгущении, концентрации образа, сведении его в одну точку. Я всегда чувствовал, что искусство является одной из сторон добродетельной жизни и поэтому оно очень трудно, тогда как Арнольд, к моему прискорбию, считал искусство «забавным». Именно так, хотя из-за некой «мифологической» помпезности кое-кто из критиков склонен был всерьез относиться к нему как к «мыслителю». Символика у Арнольда была не продумана. Значением наделялось все, все входило в его «мифологию». Он все любил и принимал. И хотя «в жизни» это был умный, интеллигентный человек и умелый спорщик, «в искусстве» он оказывался беспомощен и даже не способен расчленять понятия. (А расчленение понятий – это центральный момент искусства, как и философии.) Причина здесь крылась, по крайней мере отчасти, в его особого рода велеречивой религиозности. Он был, на свой путаный лад, последователем Юнга. (Я не хочу сказать ничего дурного об этом теоретике, чьи писания просто нахожу неудобоваримыми.) Для Арнольда-художника жизнь представляла собой одну огромную богатую метафору. Но на этом мне, по-видимому, следует остановиться, ибо я уже чувствую, как мой тон становится все ядовитее. Я много слышал от моего друга Ф. об абсолютной духовной ценности молчания. Как художник, я уже и раньше на свой скромный лад инстинктивно понимал ее, и это давало мне право презирать Арнольда.
17
Здесь: живым голосом (итал.).