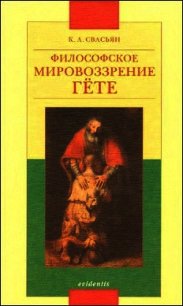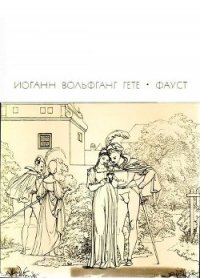Лотта в Веймаре - Манн Томас (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Время, время, – и мы, его дети! Мы увядали вместе с ним, спускались под гору, но жизнь и молодежь всегда были наверху, жизнь всегда была молода, молодежь всегда жила с нами и подле нас – отживших: мы еще пребывали с ней вместе в одном времени, еще нашем и уже их времени, могли любоваться ею, целовать неморщинистый лоб нашей повторенной юности, нами рожденной. Этот, здесь, не был рожден ею, но мог бы быть, – и это особенно легко было себе представить с тех пор, как не стало той, что могла это опровергнуть, с тех пор, как пустовало место не только возле нее, Шарлотты, но и возле отца, возле юноши той поры. Она испытующе смотрела на порождение другой, критически, сурово мерила взглядом его фигуру. Может быть, она бы удачнее создала его? Нет, мамзель неплохо справилась с задачей, он был статен, пожалуй, даже красив. Похож ли он на Христину? Она никогда ее не видала. Наклонность к полноте, вероятно, шла от нее, – он был слишком тяжел для своих лет, хотя рост и скрадывал этот недостаток: отец был стройнее в ушедшее время, совсем по-другому чеканившее и обряжавшее своих детей, – пусть подтянутее, чопорнее, но и непринужденнее. Юноши той давней поры носили завитые напудренные волосы и косичку на затылке, – у этого каштановые вьющиеся волосы спускались на лоб в послереволюционной непринужденности и с висков кудрявыми бакенбардами сбегали в стоячий воротник, в который, с почти смешной важностью, упирался высокий мягкий подбородок, а открытая шея поэтически выступала из кружевного ворота рубашки. Что и говорить, солиднее и сдержаннее, или, лучше сказать, официальнее выглядел стоящий здесь юноша в своем высоком, заполняющем вырез воротника галстуке. Коричневый, по-модному расстегнутый фрак с приподнятыми у плеч рукавами и траурной перевязью на одном из них плотно и ладно облегал его несколько дородную фигуру. Он стоял в элегантной позе, прижав локоть к туловищу, и держал цилиндр тульей книзу в слегка вытянутой руке. Но странно, было в нем нечто, заставлявшее забывать об этой несомненной, чуждой всему романтическому безупречности, нечто не вполне подобающее, с бюргерской точки зрения, не совсем допустимое, – то были его глаза, ласковые и меланхоличные, с каким-то непозволительно влажным блеском. Глаза амура, ко всеобщему возмущению некогда дерзнувшего передать герцогине поздравительные стихи, глаза незаконнорожденного…
В точности повторившийся карий цвет этих чуть различных глаз, их близкая посадка, внезапно, за какие-нибудь несколько секунд – покуда молодой человек вошел, поклонился и приблизился к ней, – потрясли ее сходством с отцом. Это было всеми признанное сходство, столь же трудно доказуемое, сколь и неоспоримое, несмотря на суженный лоб, не такой выразительный нос, на меньший и более женственный рот, – сходство, робко несомое, в сознании его ущербности, печальное и как бы просящее прощения, но подтвержденное еще и осанкой и распрямленными, несколько откинутыми назад плечами, даже если то и было подражанием, а не просто унаследованной особенностью. Эта робкая, несостоятельная попытка жизни – повториться, снова всплыть на поверхность времени, снова стать настоящим, будившая столь сладостные воспоминания и равная прошлому только тем, что она обладала былою молодостью и непреложной действительностью, потрясла старую женщину так сильно, что когда сын Христины склонился над ее рукой – при этом от него пахнуло вином и одеколоном, – ее дыхание перешло в короткий, подавленный всхлип.
И тут же она вспомнила, что юность, принявшая этот образ, облечена дворянским достоинством.
– Господин фон Гете, – заговорила она, – вы – желанный гость! Я ценю ваше внимание и от души радуюсь возможности так скоро после приезда в Веймар свести знакомство с сыном моего друга юности.
– Благодарю за милостивый прием, – отвечал он с учтивой улыбкой, причем на мгновение блеснули его слишком мелкие, белые, крепкие зубы. – Меня прислал отец. Ему вручена ваша любезная записка, и вместо того, чтобы ответить вам письменно, он предпочел моими устами, госпожа советница, приветствовать вас в нашем городе и выразил уверенность, что ваш приезд внесет живительную струю в наше общество.
Она засмеялась от растроганности и смущения.
– О, это значит ждать слишком многого от усталой, старой женщины! Но как здоровье нашего дорогого тайного советника? – добавила она и указала на один из стульев, на которых они сидели с Римером. Август обстоятельно переставил его и подсел к ней.
– Благодарю за внимание, – проговорил он. – Неплохо. Жаловаться нет причины, он, в общем, здоров и бодр. Правда, поводов к беспокойству, вернее, к заботам всегда остается достаточно. Известная неустойчивость здоровья все еще дает себя знать. Но дозвольте мне, со своей стороны, спросить, как прошло путешествие госпожи советницы? Без особых приключений? Гостиница вас удовлетворила? Такое известие будет отцу очень приятно. Я слышал, что поездка предпринята для свидания с сестрой, достопочтенной камеральной советницей Ридель. Ваш приезд возбудит прочувствованную радость в доме, ценимом высшими и всеми единодушно почитаемом. Смею думать, что между мною и господином камеральным советником существует полное взаимное понимание как в личных, так и в служебных вопросах.
Шарлотта находила его манеру выражаться не по возрасту чопорной. Уже «живительная струя» звучала необычно: «прочувствованная радость» и «полное взаимное понимание» тоже рассмешили ее. К подобным оборотам мог прибегать Ример, но в устах цветущего молодого человека они казались не только странными, но в своей педантичности почти эксцентрическими. Шарлотта чувствовала, что это уже отстоявшаяся манера, – говорящий явно не замечал ее аффектированности так же как не замечал смешливого подергивания в лице Шарлотты, ибо не мог догадаться о его причине. Шарлотту же невольно тянуло сопоставить велеречивую размеренность его слов с тем, что она знала о его похождениях, с тем, что ей поведал о нем большой влажный рот Адели. Она думала о его приверженности к вину, о солдатке, о том, что он однажды был взят на гауптвахту, что Ример сбежал от его грубости; и тут же вспомнила о его ложном, искусственно восстановленном общественном положении после той злосчастной истории, о приглушенном упреке в трусости и нерыцарственности, бремя которого он нес. И над всем этим всплыла мысль о его темном влечении к юной Оттилии, «амазоночке», «прелестной блондинке». Эта любовь, собственно, уже не противоречила его своеобразной манере выражаться и, как ей казалось, каким-то окольным путем, но все же непосредственно связывалась с ней и с ней согласовалась. И ведь в то же время эта любовь касалась и ее, старой Шарлотты, или, лучше сказать, ее второго, более распространенного, более всеобщего «я», касалась трогательным и осложняющим образом, ибо здесь характеры сына и возлюбленного сливались, хотя сын и оставался только сыном, а это значит – вел себя, как отец. «Боже мой, – думала Шарлотта, вглядываясь в его довольно красивое и столь похожее лицо. – Боже мой!» В этот молящий возглас она вкладывала всю растроганность и милосердную нежность, пробужденную в ней этим юношей, но он же относился и к комизму его манеры изъясняться.
Кроме того, она помнила и задачу, на нее возложенную, просьбу, дошедшую до ее сердца, вмешаться в известные обстоятельства, задержать определенный ход вещей и отговорить то ли любовника от «амазоночки», то ли «амазоночку» от любовника. Но, по правде говоря, она к тому не ощущала ни охоты, ни склонности и считала, что от нее требуют чрезмерного – интриговать против «амазоночки» для ее же спасения, тогда как очевидным призванием этой «амазоночки» было оттеснить солдатскую жену и ей подобных, а в этом стремлении она, старая Шарлотта, полностью солидаризовалась с нареченной.
– Меня радует, господин камеральный советник, – проговорила она, – что два столь достойных человека, как вы и мой зять, цените друг друга. Впрочем, я это слышу не впервые. В письменной форме (она невольно вторила – и так, словно хотела над ним подшутить, – комичной напыщенности его речи) сестра поведала мне об этом. Позвольте, раз уже мы заговорили о таких вещах, поздравить вас с недавним продвижением по службе и при дворе.