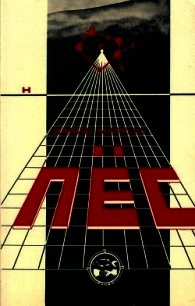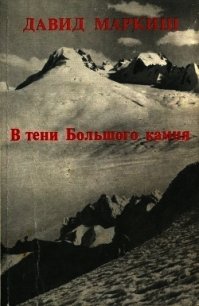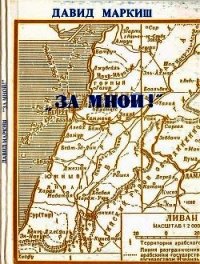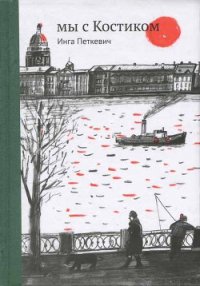Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (читать бесплатно полные книги .txt) 📗
Вадим Соловьев долго рассматривал табличку, а потом огляделся по-новому, и ничего нового не обнаружил в торговой улице и в толпе людей, похожих на узбеков или армян. Вот по этим, значит, камням, политым нечистотами, вели на казнь Иисуса, и крылья креста задевали за эти стены, может быть, и за стену мясной лавки. И вот так же, облокотись о черный от крови прилавок, глядел на приговоренного мясник в белой вязаной шапочке. А Иисус тащился, волоча свои высокие журавлиные ноги, и не было у него сил говорить к торговцам, ненавидящим его, да и смысла никакого не было. Он все уже сказал, что успел, и лишь горстка ненадежных мужчин да преданных женщин слушала его вдумчиво; а прочие, как малые дети, ждали от него фокусов… И, тащась по вонючим камням, не о скорой смерти думал Иисус, а о страшной бессмысленности содеянного: вот его Божий народ, народ торговый, глядит на него со злобой и безжалостным детским любопытством. Глядит из-за туш и подносов мясник, спекулирующий мясом жертвенных животных, глядит меняла с камнем в руке — бросить его в нарушителя священной и прибыльной храмовой торговли. Опасный человек Иисус из Назарета, фокусник и фантазер, хотя и забавный; сегодня он по воде пройдет, как посуху, а завтра в карман залезет к почтенному торговцу так, что тот ничего не заметит, и украдет кошелек. Такие люди долго не живут: им не надо, и нам не надо.
Церковь с надстроенной колокольней стояла в конце улицы, по соседству с минаретом, который был чуть выше колокольни. На вырубленной в камне площадке перед церковью сидели и расхаживали люди, приехавшие сюда с разных концов мира: были тут и желтоволосые северяне, и негры с широкими носами, и японцы, и монахи в рясах черных, белых, розовых и коричневых. Несколько монахинь сидели у желтоватой, цвета старой слоновой кости каменной стены. На фоне черной просторной одежды, покрывающей их с головы до ног, тускло-желто светились их лица да кисти рук, сведенные и сложенные на коленях. Прямо высвеченные сильным солнцем, фигуры монахинь казались необъемными, плоскими, как на иконе, на золотистой доске.
В центре полутемной церкви помещалась каменная островерхая часовенка. Перед низким входом в нее стояло в очереди десятка три людей, мужчин и женщин. Люди стояли скорбно, переговаривались друг с другом шепотом, как перед открытой могилой… Сюда, значит, приволокся по смрадной улице назаретский Иисус, здесь принял он казнь и смерть, и над его каменным гробом поставили потом часовню. Здесь, на окраине базара, кружили и жужжали синие мухи над мертвым телом фантазера и чудака, взявшегося улучшить торговое племя людей.
Очередь подвигалась быстро. Нагнув голову и плечи, Вадим Соловьев шагнул в низкую дверцу. Крохотная комнатка была словно пристроена к каменному саркофагу, вмурованному в правую стену, во всю ее длину. Но прежде саркофага Вадим увидел прямо перед собой седобородого краснощекого монаха, с доброй улыбкой протягивавшего ему длинную коричневую свечку. Толстая пачка таких свечей лежала на табурете, у изголовья гроба.
Не ожидавший встретить здесь служащего, Вадим Соловьев, не беря свечу, отстранился немного от доброго человека и жадно повернулся вправо, к гробу. С каменной розовой крышки глядели на него Герцль и Ленин, Вашингтон и Делакруа и латиноамериканские генералы в парадных мундирах. Ассигнации были насыпаны густо, над головой Иисуса.
— Уан доллар, — не убирая руки со свечой, ласковым голосом сказал монах. — Онли уан доллар.
Вадим Соловьев попятился.
На церковном дворе монахини все так же сидели вдоль желтоватой стены, подставив солнцу лица и ладони. Сбоку от них опустился на строительный каменный обрубок Вадим Соловьев и прислонился спиной к прохладно-теплой стене; глубинный холод камня сочился из недр древней стены и охлаждал нагретую ее поверхность.
Вот и конец истории об Иисусе из Назарета. Вот, значит, и все. Он умер, и люди приспособили его гроб под торговый прилавок. Он, нищий, разогнал храмовых торгашей — кто вышвырнет из его могильной часовни свечного торговца с ласковым голосом? Ведь и у тех менял, наверно, голоса были ласковые: «Уан доллар. Онли уан доллар». Кто вышвырнет — того, наверно, не распнут, а засадят в сумасшедший дом. Иисуса тоже считали безумцем, только в его время вместо смирительной рубашки на инакомыслящего сразу надевали погребальный саван… Ну, хорошо, здесь это, кажется, не принято, подумал Вадим Соловьев, это у нас в России все просто: аминазин, смирительная рубашка, семь лет лагеря. «Фома Пухов на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки». Это у нас возможно, а торговать свечами или селедками на Христовом гробе едва ли кому пришло бы в голову. Вот возьми и выгони, Вадим, выгони, Вадик, этого свечника! Христиане тебя за это проклянут как святотатца, а евреи посадят в тюрьму как нарушителя общественного порядка. Ну, пройди по знакомой дороге, по Виа Долороза, ворвись в Храм, выгони! Слабо тебе, Вадик, да и неловко как-то. В России не слабо было правду писать, хоть Лубянка пострашней местного суда. А здесь правды и не скажешь, а и скажешь — не поймут: привыкли, неинтересно. Да и на каком языке сказать: на русском? Кто станет слушать? Это в России слушали, спасибо говорили за правду. И, как высшую награду, давали лагерный срок. А оставленные до поры на свободе бросали цветы под колеса тюремного фургона… Здесь и передач носить не надо: попробуй, недодай какому-нибудь бандиту кусок курицы — он всю тюрьму разнесет, до Президента допишется.
В сухом, прокаленном воздухе жужжала синяя муха. И Вадим вдруг вспомнил, ощутил: желтая тропинка через сосняк, густой, настоенный на хвое лесной воздух, и вот ты входишь в легкое облачко толкунцов, норовящих удалить, облепляющих лицо, и ты машешь руками, и шлепаешь себя по щекам и ругаешься, и прибавляешь шагу, и звенящее облачко остается позади… Сюда бы, сюда, во двор храма Иисусова гроба, хотя бы это российское лесное облачко, хотя бы его!
Вечером этого дня он сказал Нелли Цветковой:
— Здесь все разбито на квадратики, и в каждом квадратике сидит свой паук за прилавком. А в России — трясина, ужас, все перемешано, хлябь. Но Бога, мне кажется, надо искать там, где совсем плохо. Там люди слушают.
Они сидели за столом, за бутылкой водки. В консервных жестянках серебрились генисаретские сардины, алел маринованный перец. Нелли Цветкова не любила переводить время на хозяйство.
— Да, верно это, — сказала Нелли. — Но мы из России уехали сами, и все разговоры о ней — чистая теория. О ней только стихи осталось писать…
— Я не сам уехал, — перебил Вадим Соловьев. — Меня выслали. Один гад выслал, а другой, может, обратно впустит… Отсюда люди в Россию возвращались, были такие случаи?
— Редко, — подумав, сказала Нелли. — Несколько человек вернулось. Но они все ехали сначала в Вену, а там уже добивались.
— В Вену… — легонько постукивая ногтем по краешку рюмки, повторил Вадим. — В Вену…
— Оставайся лучше в Иерусалиме, — едва слышно сказала Нелли Цветкова. — Вот у меня тут жить можно… Я тебя с нашими познакомлю, с христианами. А, Вадим?
— Если я даже на самой Виа Долороза поселюсь, — усмехаясь, сказал Вадим, — в мясной лавке там буду ночевать — что, я от этого стану ближе к Христу? Да я и не верю ни в какие эти дела с непорочным зачатием, с ангелами — это все чудеса в решете… Просто, был Иисус, и он хотел, чтобы люди стали немного лучше, и ничего у него из этого не вышло. Вот тебе и все.
— Да что ты такое говоришь! — Нелли прижала ладони к щекам, глядела ясно. — А Церковь!
— Я сегодня был в церкви, — поморщился Вадим Соловьев. — Больше не пойду: музыку я не люблю, и людей там, как в театре. Не пойду. — Рассказывать о том, что он видел в могильной часовне, у него не повернулся бы язык.
— Но ты в Иисуса Христа веришь? — не отнимая ладоней от щек, спросила Нелли.
— Да, — сказал Вадим Соловьев. — Я ж тебе сказал. Он был, наверно, необыкновенный человек. А люди сделали из него Бога, а из его намерений — самую настоящую контору, со справочным бюро, с отделом кадров, с кассой. Если б он все это видел, он бы во второй раз умер.