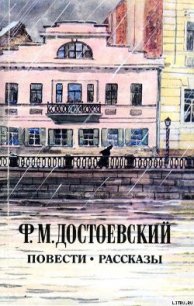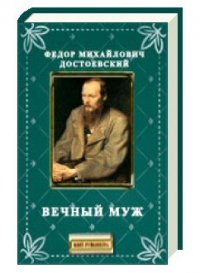Село Степанчиково и его обитатели - Достоевский Федор Михайлович (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
— Проклятая размазня! — прошептал подле меня Мизинчиков, — точно не видит, — куда его привели. Вот ломаться-то теперь будет!
— Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! — вскричал дядя. — Ободрись, успокойся! И, право, переменил бы ты теперь костюм, — Фома, а то заболеешь… Да не хочешь ли подкрепиться — а? так, эдак… рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб согреться…
— Малаги бы я выпил теперь, — простонал Фома, снова закрывая глаза.
— Малаги? навряд ли у нас и есть! — сказал дядя, с беспокойством смотря на Прасковью Ильиничну.
— Как не быть! — подхватила Прасковья Ильинична, — целые четыре бутылки остались, — и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенье. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования.
— Малаги захотел! — проворчал он чуть не вслух. — И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, проклятые! Ну, я-то чего тут стою? чего я-то тут жду?
— Фома! — начал дядя, сбиваясь на каждом слове, — вот теперь… когда ты отдохнул и опять вместе с нами… то есть, я хотел сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание…
— Где, где она, моя невинность? — подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду, — где золотые дни мои? где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? где, где это время? Воротите мне мою невинность, воротите ее!..
И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева.
— Эк чего захотел! — проворчал он с яростью. — Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и теперь! присягну, что был.
— Фома!.. — начал было опять дядя.
— Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека?
— кричал Фома, — когда я обнимался с человеком и плакал на груди его? а теперь — где я? где я?
— Ты у нас, Фома, успокойся! — крикнул дядя, — а я вот что хотел тебе сказать, Фома…
— Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с, — прошипела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.
— Где я? — продолжал Фома, — кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же ты такое? Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умален, избит, и когда засыплют песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом!
— Батюшки, о монументах заговорил! — прошептал Ежевикин, сплеснув руками.
— О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома, — не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо!
— Фома! — прервал дядя, — полно! успокойся! нечего говорить о монументах. Ты только выслушай… Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за черту добродетели — уверяю тебя, ты ошибся, Фома…
— Да перестанете ли вы-с? — запищала опять Перепелицына, — убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, потому что они в ваших руках-с?..
Вслед за Перепелицыной встрепенулась и генеральша, а за ней и вся ее свита; все замахали на дядю руками, чтоб он остановился.
— Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю! — с твердостью отвечал дядя. — Это дело святое! дело чести и справедливости. Фома! ты рассудителен, ты должен сей же час испросить прощение у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил.
— У какой девицы? какую девицу я оскорбил? — проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто совершенно забыв все происшедшее и не понимая, о чем идет дело.
— Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей, благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда…
— Кого же я оскорбил? — вопил Фома, — какую девицу? Где она? где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице!..
В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.
— Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений! к чему это все? — говорила она умоляющим голосом. — Бросьте это!..
— А! Теперь я припоминаю! — вскричал Фома. — Боже! я припоминаю! О, помогите, помогите мне припоминать! — просил он, по-видимому, в ужасном волнении. — Скажите: правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли, правда ли это?
Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу.
— Так, так! — твердил он, — я припоминаю… я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сюда, преследуемый громом, чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навеки! Приподымите меня! Как ни слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность.
Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в положение оратора и протянул свою руку.
— Полковник! — вскричал он, — теперь я очнулся совсем; гром еще не убил во мне умственных способностей; осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца… Но что до этого! И какое кому дело до правого уха Фомы!
Последним словам своим Фома придал столько печальной иронии и сопровождал их такою жалобною улыбкою, что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего понемногу уничтожаться перед таким согласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков плюнул и отошел к окну. Бахчеев все сильнее и сильнее подталкивал меня локтем; он едва стоял на месте.
— Теперь слушайте же все мою исповедь! — возопил Фома, обводя всех гордым и решительным взглядом, — а вместе с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич! давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего сердца и видел все, все, тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю за вами. Полковник! я, может быть, ошибался, но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?
— Фома, Фома!.. ты, впрочем, не очень распространяйся, Фома! — вскричал дядя, с беспокойством смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки.
— Не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня, — продолжал Фома, как будто и не слыхав предостережения дяди. — Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как вешняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от погибели». Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог мне поручиться за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвовать для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиблагороднейшей из девиц…
— Фома! неужели ты мог это подумать? — вскричал дядя.
— С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он расскажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел все в черном цвете, и это был не тот «черный цвет», о котором поется в известном романсе, — будьте уверены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание удалить ее из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то и видели вы меня во все последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий, О! кто примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчееву, требуя от него астрономии; но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязанность предупредить несчастие, что я поставлен, что я произведен для этого, — и что же? вы не поняли наиблагороднейших побуждений души моей и платили мне во все это время злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями…