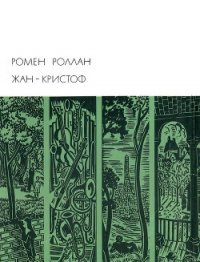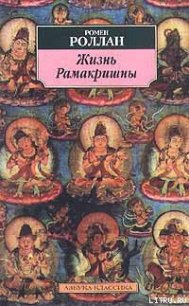Жан-Кристоф. Том IV - Роллан Ромен (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Кристоф написал Грации письмо, которое растрогало ее. Жизнь так коротка, писал он, а наша жизнь уже клонится к закату! Быть может, нам осталось не так уж много времени для встреч; жалко, почти преступно не воспользоваться случаем и не поговорить откровенно.
Грация ответила ласковой запиской: она просила извинения за то, что невольно проявляет некоторую недоверчивость с той поры, как жизнь ранила ее; она не может отрешиться от сдержанности, и любое слишком сильное проявление даже настоящего чувства отталкивает и пугает ее. Но она знает цену вновь обретенной дружбы и так же счастлива, как и он. Она просила его прийти вечером к ужину.
Сердце Кристофа было преисполнено благодарности. Лежа на кровати в своем номере, он уткнулся в подушки и зарыдал. Это была разрядка после десятилетнего одиночества. Ведь с той поры, как умер Оливье, он был одинок. Это письмо возрождало его изголодавшееся по нежности сердце. Нежность!.. Кристоф думал, что уже отказался от нее навсегда, — так долго он обходился без нее! Теперь он чувствовал, как ему не хватает нежности и сколько любви скопилось в его сердце.
Они провели вместе спокойный и блаженный вечер… Несмотря на их намерение ничего не скрывать друг от друга, он говорил с ней только на отвлеченные темы. Но сколько отрадного и сокровенного сказал он ей, сидя за роялем, куда она пригласила его взглядом, чтобы дать ему возможность высказаться! Она была потрясена, видя смирившееся сердце этого человека, которого она знала прежде гордым и необузданным. При прощании, в молчаливом пожатии рук, они почувствовали, что обрели друг друга и никогда больше не потеряют. Было тихо, не ощущалось ни малейшего дуновения, шел дождь. Сердце Кристофа пело…
Грации оставалось пробыть здесь всего несколько дней, она не отложила своего отъезда ни на час, а Кристоф не посмел ни просить ее побыть еще, ни роптать. В последний день они гуляли вместе с детьми. Был миг, когда Кристоф, преисполненный любви и счастья, хотел сказать ей об этом, но, мягко, ласково улыбаясь. Грация остановила его:
— Молчите! Я знаю все, что вы хотите сказать.
Они сели на повороте дороги — там, где встретились в первый раз. Продолжая улыбаться, Грация смотрела на долину, расстилавшуюся внизу, но не видела ее. А Кристоф смотрел на ласковое лицо со следами страданий; в ее густые черные волосы вплелись белые нити. Он испытывал обожание, жалость и страсть к этой плоти, пропитавшейся страданиями души. Во всех этих ранах, нанесенных временем, была видна душа. И тихим, дрожащим голосом, как о высшей милости, он попросил, чтобы она подарила ему… один седой волос.
Она уехала. Кристоф не мог понять, почему Грация не хотела, чтобы он сопровождал ее. Он не сомневался в ее дружбе, но сдержанность Грации озадачила его. Ни одного дня он не мог оставаться в этих краях и тут же уехал. Он пытался отвлечься путешествиями, работой. Он написал Грации. Она ответила ему недели через три; в ее коротких письмах ощущалась спокойная привязанность, без нетерпения и тревоги. Письма причиняли ему страдание, и вместе с тем он любил их. Он не считал себя вправе упрекать ее. Их чувство было еще слишком молодо, слишком недавно возродилось! Он содрогался при мысли, что может потерять Грацию. Между тем каждое ее письмо дышало безмятежным покоем, который должен был бы вселить в него уверенность. Но ведь они были такие разные!..
В конце осени они условились встретиться в Риме. Не будь надежды на встречу с Грацией, это путешествие не прельщало бы Кристофа. Долго длившееся одиночество сделало его домоседом. Он не испытывал больше склонности к бесполезным переездам с места на место, в которых черпали удовольствие суетливые бездельники сто времени. Он боялся нарушать свои привычки — это опасно для правильной работы мысли. К тому же Италия нисколько не привлекала его. Кристоф знал ее только по отвратительной музыке «веристов» и ариям теноров, которыми родина Вергилия периодически вдохновляет путешествующих литераторов. Он чувствовал к ней враждебность и недоверие передового художника, которому надоели ссылки на Рим из уст самых худших поборников академической рутины. И, наконец, в нем еще бродила старая закваска — инстинктивная неприязнь, которую ощущают в глубине души все северяне к южанам или, по крайней мере, к тому легендарному типу болтливого хвастунишки, какими представляются северянам все обитатели юга. При одной только мысли о них Кристоф презрительно морщился… Нет, у него не было ни малейшего желания знакомиться с этим народом, не имеющим музыки. (Так, со своей обычной склонностью к преувеличениям, утверждал Кристоф.) «Можно ли принимать всерьез, на фоне современной музыки, бренчанье на мандолине и выкрики в болтливых мелодрамах?» — думал он. Но ведь к этому народу принадлежала Грация. Какими путями, какими дорогами не пошел бы Кристоф, чтобы снова обрести ее. Нужно только закрыть глаза и ничего не видеть до той поры, пока он не встретится с Грацией.
Уже давно у него выработалась привычка закрывать глаза. В течение стольких лет он держал за ставнями свою внутреннюю жизнь! Теперь, поздней осенью, это было особенно необходимо Три недели непрерывно лили дожди. А потом серая шапка сплошных облаков на висла над долинами и городами промокшей, дрожавшей от холода Швейцарии. Глаза утратили воспоминание о благодатном солнечном свете. Чтобы снова обрести в себе всю силу энергии, нужно было сначала создать абсолютный мрак, а потом, сомкнув веки, опуститься в глубину шахты, в подземные галереи мечты. Там, среди пластов угля, спало солнце мертвых дней. Но тот, кто проводит жизнь под землей и, согнувшись, вырубает уголь, выходит наверх обожженный, с онемевшим позвоночником и коленями, с изуродованными руками и ногами, полуоцепеневший, с тусклым, как у ночной птицы, взглядом. Сколько раз приносил Кристоф со дна шахты с трудом добытый огонь, который согревал похолодевшие сердца! Но северные мечты отдают жаром печи и закупоренной комнаты. Этого не подозреваешь, когда живешь там, любишь это удушливое тепло, этот полумрак и заветные мечты, скопившиеся в отяжелевшей голове. Любишь то, что имеешь. Приходится этим довольствоваться!..
Когда поезд вышел из теснин альпийских гор и Кристоф, дремавший в углу вагона, увидел безоблачное небо и солнце, заливавшее склоны гор, ему показалось, что это сон. По ту сторону горного хребта он только что оставил тусклое небо, сумеречный день. Эта перемена была так неожиданна, что в первую минуту Кристоф скорее удивился, чем обрадовался. Прошло некоторое время, пока его оцепеневшая душа отошла немного, пока растаяла сковывавшая ее кора, пока сердце освободилось от теней прошлого. День разгорался, мягкий свет обволакивал Кристофа, и, забыв обо всем, он жадно упивался и наслаждался тем, что видел.
Миланские равнины. Дневное светило отражается в голубых каналах, сеть их вен бороздит рисовые поля, покрытые пушком. Четко вырисовываются тонкие и гибкие силуэты осенних деревьев с пучками рыжего мха. Горы да Винчи — снежные, мягко сверкающие Альпы — выделяются резкой линией на горизонте, окаймляя его красной, оранжевой, золотисто-зеленой и бледно-лазурной бахромой. Вечер опускается над Апеннинами. Извилистые склоны небольшой крутой горной цепи вьются, как змеи, сплетаясь и повторяясь, словно в ритме фарандолы. И вдруг, в конце спуска, как поцелуй, доносится дыхание моря и аромат апельсинных рощ. Море, латинское море! В его опаловом свете замерли и дремлют стаи лодок, сложивших свои крылья…
На берегу моря, у рыбачьей деревушки, поезд остановился. Путешественникам объявили, что из-за сильных дождей в туннеле между Генуей и Пизой произошел обвал и все поезда запаздывают на несколько часов. Кристоф взял билет прямого сообщения до Рима, и теперь он был в восторге от этой задержки, вызвавшей негодование его спутников. Он выскочил на перрон и воспользовался остановкой, чтобы подойти к морю, — оно манило его. Оно увлекло Кристофа настолько, что часа через два, когда раздался гудок уходившего поезда, Кристоф, сидя в лодке, крикнул ему вслед: «Счастливого пути!» Он плыл в светящейся ночи, отдаваясь баюканью светящегося моря, вдоль благоухающего берега, огибая утесы, окаймленные молодыми кипарисами. Кристоф поселился в деревушке и провел там пять дней, ни о чем не тревожась, радуясь жизни. Он напоминал долго постившегося человека, который набросился на еду. Всеми своими изголодавшимися чувствами он впитывал яркий солнечный свет… Свет, кровь вселенной! Ты разливаешься в пространстве подобно реке жизни и через глаза, губы, ноздри, сквозь поры нашей кожи проникаешь в глубь нашего тела. Свет, более необходимый для жизни, чем хлеб! Тот, кто увидел тебя однажды без твоих северных завес — чистым, жгучим, обнаженным, — невольно задает себе вопрос, как он мог жить прежде, не зная тебя, и чувствует, что больше не сможет жить, не видя тебя.