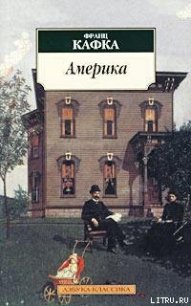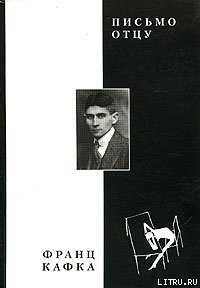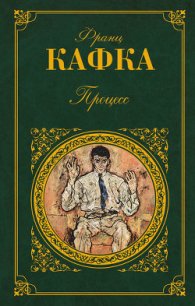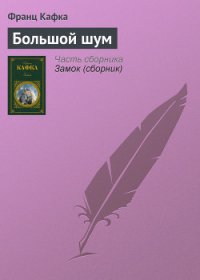Письма к Фелиции - Кафка Франц (книги полностью бесплатно .TXT) 📗
Франц.
11.02.1913
Любимая, уже опять так поздно; ничего не создавая, я все еще по старой привычке бодрствую, словно в ожидании благодатного дождя, который непременно должен пролиться с небес.
Только Ты мне описала нашу встречу в Берлине, как я тут же увидел ее во сне. Много всего приснилось, но ничего отчетливого я уже не помню, только некое чувство, смесь скорби и счастья, во мне от этого сна до сих пор живет. Мы гуляли по улице, местность странно напоминала пражский старый город, было шесть вечера или чуть позже (возможно, кстати, это действительное время сна), мы шли не под руку, но при этом ближе друг к другу, чем даже когда под руку идешь. Бог Ты мой, как же тяжело описать на бумаге изобретение, которое я придумал, чтобы идти не под руку, не бросаясь всем в глаза, и вместе с тем совсем рядом; когда мы с Тобой шли по Грабену, помнишь, я мог бы Тебе показать, но мы тогда об этом не думали. Ты торопилась в отель, а я плелся в двух шагах от Тебя по краю тротуара. Ну как же мне Тебе описать, как мы во сне с Тобой гуляли! Короче, когда люди идут под руку, руки их соприкасаются только в двух местах и каждая сохраняет самостоятельность, наши же руки соприкасались от плеч до запястий по всей длине. Но погоди, я сейчас Тебе нарисую. [34] Под руку – это вот так. А мы шли вот так. Ну, как Тебе нравятся мои рисунки? Знаешь, когда-то я был великим рисовальщиком, но потом в школе нас обучала рисованию очень плохая художница и начисто загубила мой талант. Но погоди, я скоро вышлю Тебе несколько своих старых рисунков, чтобы Тебе было над чем посмеяться. Рисунки эти в свое время, уже много лет назад, доставляли мне удовлетворение, как мало что в жизни.
Любимая, Ты начисто не доверяешь моей деловой сметке? И не сулишь Твоим диктографам от моих усилий никакого проку? Сколько я Тебе на эту тему ни писал, Ты ни разу мне по существу дела не ответила. Разве Ты не видишь, как Ты меня этим посрамляешь? Это почти как если бы, едва указав мне местечко в Твоем бюро, Ты тут же решила снова выставить меня вон…
Франц.
12.02.1913
Когда письмо Твое приходит с утра, как сегодня, то весь день с самого начала принадлежит Тебе. Но ежели письмо приходит позже или вообще ко мне домой, тогда эта разнесчастная первая половина дня вовсе не знает, куда деваться, и мыкается так, что у меня начинаются головные боли. Впрочем, для головных болей есть, судя по всему, и другие причины, потому что донимают они меня сейчас почти беспрестанно. Просто я слишком мало гуляю, слишком мало – и к тому же плохо – сплю, короче, живу так, будто я все это время и впрямь пишу что-то хорошее, что, будь оно и вправду так, давно бы одарило меня излечением от всех хворей, а сверх того еще и счастьем. Но в том-то и дело, что я ничего не пишу, а всего лишь торчу здесь, как старая, запертая в своем стойле кляча.
Смотри-ка, опять мы успеваем ответить друг другу за одну ночь или одновременно предугадываем вопросы друг друга. В пятницу вечером я спросил Тебя, даже не подумав, что это пятница, как у Тебя обстоит с молитвами, и именно в пятницу Ты пошла в храм. Вчера я спрашивал, когда же я наконец получу проспекты, и уже сегодня имею на этот вопрос ответ, хоть и неудовлетворительный… Наконец, только вчера в письме Пика шла речь о Ласкер-Шюлер, [35] а сегодня Ты о ней спрашиваешь. Я ее стихов терпеть не могу, я ничего в них не ощущаю, кроме скуки от их пустоты и отвращения к их искусственной выспренности. Да и проза ее мне претит по тем же причинам, в ней слишком много безрассудных содроганий ума нервической городской дамочки. Но, возможно, я сильно заблуждаюсь на ее счет, есть много людей, которые ее любят, Верфель, к примеру, говорит о ней только с воодушевлением. Да, живется ей плохо, от нее, сколько мне известно, ушел ее второй муж, у нас тут тоже были для нее сборы; пришлось и мне выложить 5 крон, я сделал это без малейшего душевного сочувствия; не знаю, право, почему, но мне она всегда представляется алкоголичкой, что ночами таскается по кафе и пивным…
Знаешь, любимая, надо бы мне поостеречься в письмах к Тебе говорить о посторонних, особенно неприятных мне людях. А то они, преспокойно дав себя изобразить и проникнув таким образом в нашу переписку, затем, когда их уже не выставишь, словно в отместку мне за такое отношение, вдруг начинают непомерно разрастаться, норовя своими отвратительными или просто безразличными мне фигурами Тебя, любимая, совсем заслонить. Поди вон, изыди, Ласкер-Шюлер! Любимая, приди ко мне! Пусть никого не будет ни вокруг нас, ни между нами.
Франц.
13.02.1913
Я долго стоял у балконной двери, уставясь на улицу в поисках ответа на вопрос, ехать ли мне в Дрезден. Я, правда, совсем не знаю, что Ты будешь в Дрездене делать, [36] едешь ли Ты туда с матушкой или одна, будут ли у Тебя там какие-то особые поручения (на это указывает как внезапность поездки, так и то, что Ты, похоже, намереваешься остаться в Дрездене на ночь) и, следовательно, не помешаю ли я, даже если всего лишь буду ожидать Тебя перед отелем или пытаться захватить место в ресторане, с которого можно будет наблюдать Твой столик. Но в действительности все эти соображения не смогли бы воспрепятствовать моей поездке. Однако состояние мое, которое даже здесь, дома, в кругу семьи, скорее влечет меня в мою темную каморку, нежели в освещенную гостиную, превращает для меня само подобное путешествие в предприятие почти неимоверное, а кроме того, поскольку целью путешествия будешь Ты, еще и в рискованное, опасное предприятие, ибо что скажешь Ты, что скажет Твоя сестра, впервые узрев меня в таком виде? Нет, нет и нет. Остаюсь на своем месте, только еще немного печальней обычного и еще немного беспокойней – ибо Ты будешь ближе, чем обычно, и все равно в недосягаемости для меня. Дряхлый старичок, ветхая старушка, ни слова не говоря, решились бы на эту поездку, а я не могу.
Прощай, любимая, и проведи там несколько спокойных часов. Прости, если я Тебя и в Дрездене буду тревожить письмами. Воскресное письмо ждет Тебя в Берлине, ничего нового в нем нет, лишь все та же вечная литания последних недель.
Франц.
14.02.1913
…Вчера пришли листы с корректурой Твоей маленькой истории. [37] Как прекрасно окаймляют ее название наши имена! Хотя бы до тех пор, пока Ты ее не прочла, не жалей о том, что дала согласие на упоминание Твоего имени (Ты названа там, конечно, только Фелицией Б.), ибо вообще-то история эта, сколько и кому бы Ты ее ни показала, никому не придется по душе. Утешением Тебе или чем-то вроде утешения может послужить лишь то, что я предпослал бы ей Твое имя даже вопреки Твоему запрету, ибо посвящение – это хоть и крохотное, хоть и неуверенное, но несомненное свидетельство моей любви к Тебе, а любовь живет не разрешением, а порывом. Впрочем, для возражений у Тебя еще есть время, издание книги задерживается, протянутся еще месяцы, прежде чем она выйдет.
Любимая! Видишь, как бесплодная пора не-писания – а она, похоже, раскинулась передо мной без края и конца – бросает меня то в жар, то в холод? Весь вечер я радовался тому, что буду писать Тебе, а теперь, когда пишу, меня одолевает усталость, или я делаю вид, что она меня одолевает, и заканчиваю письмо, надув губы и потупив пустые глаза.
Франц.
15.02.1913
Даже если бы я уже несколько дней назад не вознамерился пойти сегодня в театр на «Гидаллу», [38] – играли, разумеется, сам Ведекинд с женой, – после Твоего сегодняшнего второго письма, любимая, мне неминуемо пришлось бы это сделать. Ибо, сама видишь, сколь ни далеки мы друг от друга, сколь ни малоприметно, сколь ни маловероятно это стороннему взгляду, нас все же соединяет прочная веревочка – коли уж Господь не хочет нам услужить, превратив ее в опоясывающую нас обоих цепь. Но когда Ты, любимая, идешь на «Профессора Бернхарди» [39] то, несомненно, на этой же самой веревочке потянешь за собой и меня, подвергая нас обоих риску впасть в плохую литературу, которую Шницлер по большей части для меня воплощает. Чтобы нас от этого уберечь, мне вменилось в долг последовать веревочке не вполне, а пойти на «Гидаллу» и тем самым слегка Тебя от «Профессора» отвлечь, донести хоть немного истинных, ладно подобранных ведекиндовских слов до Твоего восторженно бьющегося в такт «Профессору» сердца, самому же воспринять идущие нынче вечером от Тебя шницлеровские флюиды, что я с упоением и делаю, ибо ничто, исходящее от Тебя, не может нанести мне душевного вреда. Шницлера я вовсе не люблю и почти не уважаю; разумеется, кое-что он умеет, но крупные его вещи, пьесы и проза, переполнены, на мой взгляд, каким-то тряским месивом самой омерзительной писанины. Пьесы его, которые я видел («Интерлюдия», «Зов жизни», «Медард»), улетучивались из сознания и слуха прямо на глазах, я забывал их, не успев досмотреть и дослушать. И лишь глядя на его фотографию, на эту пустую мечтательность, на эту мягкотелость души, до которой я и кончиками пальцев не хотел бы дотронуться, я начинаю понимать, почему он от первых, отчасти превосходных своих вещей («Анатоль», «Хоровод», «Лейтенант Густль») проделал такой путь. [40] О Ведекинде в том же письме даже говорить не хочу.
34
В тексте письма два схематичных рисунка.
35
Ласкер-Шюлер Эльза (1869–1945) – немецкая писательница экспрессионистской направленности.
36
Под Дрезденом жила сестра Фелиции Эрна. Внезапная и таинственная поездка была, очевидно, связана все с той же печальной историей ее «бесчестия».
37
Имеется в виду рассказ «Приговор».
38
«Гидалла, или Быть и иметь», драма Франка Ведекинда. Пражская премьера состоялась в Новом немецком театре 12 февраля 1913 г.
39
Только что (в 1912 г.) опубликованная и поставленная пьеса Артура Шницлера.
40
Имеются в виду следующие произведения Шницлера: сборник одноактных пьес (с прологом Хофмансталя) «Анатоль» (1896), пьесы «Хоровод» (1903), «Интерлюдия» (1906), «Зов жизни» (1906), «Юный Медард» (1910), новелла «Лейтенант Густль» (1901).