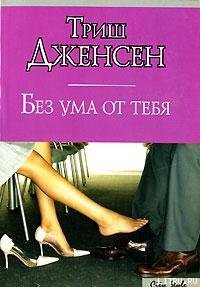Хмурое утро - Толстой Алексей Николаевич (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Латугин, который привел к колодцу артиллерийскую упряжку и смеялся с красноармейцами, услышал это, увидал красное, возбужденное лицо Шарыгина… «Ах, черт курносый, – подумал, – нет, врешь, не обскачешь…» И, подернув плечами, подошел к Сапожкову:
– Не лишний буду у вас, Сергей Сергеевич? А то – сбегаю на батарею, отпрошусь.
Всю дорогу он цеплялся к Шарыгину и смешил красноармейцев. Сейчас его обозвали нахалом, и командир сделал замечание. Так! Латугин высыпал из шапки в горсть остатки зерна, бросил их в рот.
– Языка надо добыть, что ж без толку по степи кружиться… Тогда будем знать – где фронт сконцентрировался…
– Правильно, – подтвердил Шарыгин, – дельное предложение.
– Ну, товарищи, по коням!
Сапожков надел шапку, взнуздал лошадь, кряхтя, подтянул подпруги и вскочил в седло. Перед рассветом стало подмораживать, и ночь была уже не так темна. Предутренний зеленоватый свет обозначил мутные края облаков. Ребята, нахохлившись, трусили рысцой.
– Стой! Вон они! – Латугин, роняя шапку, через голову потащил карабин. – Шестеро… семеро! – В зеленоватой мути только его морские глаза могли увидать что-то совсем неразличимое… – Да нет же, черт, – шипел он съехавшимся разведчикам. – Не туда глядишь, вон они – чуть брезжут…
Пока торопливо развьючивали пулемет, послышался топот лошадей и обозначились преувеличенные, неясные очертания всадников.
– Снохачи, клади оружие, сдавайся! – диким голосом закричал Латугин.
Не по-кавалерийски ударил лошадь дулом карабина и поскакал, и, догоняя его, поскакал вслед Шарыгин. «Назад, назад!» – надрывался Сапожков. Приостановившиеся было казаки, – видимо, тоже разведчики, – повернули коней и стали уходить. Латугин с седла выстрелил несколько раз; под одним, скакавшим позади (остальные уже едва были видны), лошадь кинулась вбок и повалилась. Латугин и Шарыгин завертелись вокруг соскочившего человека. «Давай сюда, товарищи!» – звал Латугин, возясь с ним около упавшей лошади. Когда к нему подбежали, он уже сидел верхом на казаке и крутил ему руки. «Небольшой, а какой здоровый дядька…» Казак лежал ничком, щекой в снегу, и хрипел, морщинисто зажмурив глаза.
Ему приказали встать, толкали его, перевернули на спину. Казак начал ругаться забористо, сложно, так, будто нарывался, чтобы его скорее прикончили. Сапожков, побледнев, ударил его ножнами шашки: «Встань!» Казак, приподняв голову, дико взглянул на него, встал, пошатываясь. Был он невелик ростом, покатый в плечах, с широкой, как сияние, бородой, забитой снегом.
– Типун тебе на язык, матершинник, куродав! – закричал на него Сапожков. – Перед тобой командир полка, отвечай на мои вопросы.
Казак потянул за спиной скрученные ремнем руки. Круглыми желтыми глазами, поворачивая бороду, глядел на стоящих перед ним. Вдруг облизнул губы.
– Я тебя знаю, – сказал он одному из красноармейцев, румяному и смешливому, – ты Куркина родной племянник, не стыдно тебе?
– Тю! И я тебя знаю, Яков Васильевич…
– Яков Васильевич, здравствуй, желанный, – сказал Латугин, и смешливый красноармеец опять прыснул. – Чудо бородатое, мы-то вас всю ночь ищем. Какого полка? В составе какого корпуса?
Сапожков, отстранив его, достал карту и начал допрос. Казак отвечал неохотно, потом, видимо, рассудил, что за разговором можно выгадать время, – краснопузые немного поостынут, можно будет выпутаться, – и разговорился. Из его слов узнали о прорыве фронта генералом Татаркиным и о том, что дальнейшее развитие успеха приостановлено доно-ставропольцами и что сейчас идет кровопролитный бой под Дубовкой, куда стягиваются и белые, и красные.
Конец ниточки был найден. Решили казака отправить в полк с одним человеком, остальным, не щадя коней, идти на Дубовку – рапортовать командующему о прибытии качалинского полка. И тут только спохватились – где же Шарыгин?
– Мишка, – позвал Латугин, – заснул с конями?
Брошенная лошадь Латугина стояла, наступив на повод. Из-под брюха другой лошади, повесившей худую шею, виднелись странно подогнутые ноги Шарыгина. Он обхватил седельную подушку, прижался к ней лицом.
– Мишка! – С тревогой Латугин взял его за плечи, потянул к себе. – Братишка, чего дуришь?
Шарыгин откачнулся и тяжело повалился на него. Лицо его было землистое. Шинель от груди до патронташа набухла кровью. Латугин опустил его на снег, заголил белый живот его, прижал ладонью кровоточащую колотую рану.
– Ты его угодил шашкой? Эх, Яков, Яков!.. – Латугин сорвал с себя шинель и гимнастерку, от ворота разодрал рубаху, скрутил ее жгутом и живо и ловко стал перевязывать Шарыгину живот. – Сергей Сергеевич, надо его на хутор везти.
– Позволь, как же…
– Что – как же!.. Я один его довезу и пленного пригоню.
На мертвенном лице Шарыгина выступил пот, закаченные глаза ожили, к ним возвращалось сознание, и изумление, и страх: что такое произошло с ним, – молодое, никогда не болевшее, сильное тело его сломалось…
– Товарищи, родные, как же мне теперь?
– Снегу, снегу схвати, дурной! – Латугин щипал снег и клал ему на губы.
Покуда возились с Шарыгиным и перевьючивали пулемет с захромавшей лошади, – стало уже совсем светло, ветер гнал низкие, растрепанные облака, сеющие мелким ледяным дождичком. За хлопотами не заметили, как с юга, вместе с клочьями тумана, надвинулись огромные скопления конницы.
От топота ее загудела степь. На рысях проходили колышущиеся колонны всадников, упряжки пушек, четверни тачанок. Разведчики глядели на них, держа лошадей в поводу. Уходить было поздно.
Разведчиков заметили, десятка два верхоконных отделились от головы проходившей колонны и вскачь погнали к ним. Оглянувшись, Сапожков видел, как Латугин, серьезный и побледневший, медленно потянул шашку; смешливый красноармеец, неосмысленно щелкая затвором винтовки, все лицо собрал морщинками, как от боли…
Передний всадник, в заломленной бараньей шапке, в плечистой бурке, покрывающей до репицы небольшую лошадку, что-то закричал и указал на разведчиков. Сапожков выстрелил, и тотчас Латугин, падая на него с седла, схватил за руку:
– Г…но! Не стреляй! Свои!
Они подскакивали. Фланговые, окружая, стлались на конях. Высокий человек в бурке налетел на Сапожкова и так тряхнул за грудь, что тот потерял оба стремени…
– Ослеп!.. Что за люди, какой части?
Черные глаза у него вращались, усы взъерошились, он едва удерживался, чтобы рукоятью шашки не стукнуть оробевшего Сапожкова.
– Мы качалинского стрелкового полка. Ищем связь с фронтом.
– Плохо же вы ищете связь с фронтом, когда он у вас на носу, – остывая, ответил усатый и с треском бросил шашку в ножны. – Садись, езжай с нами.
– У нас раненый, вот в чем дело-то…
– Ах, боже ж ты мой, весь полк у вас такой бестолковый? Подымай раненого на коня, вот к тому здоровому, – указал он на Латугина. – А это что за герой?
– Языка взяли.
– Давай нам языка. (Сапожков заикнулся было, что языка нужно отослать в полк.) Ах, с вами трудно мне разговаривать. С вами будет разговаривать начштаба бригады, надо же иметь понятие. – Он поправил плечом бурку и пошел крупной рысью, так, будто лошадь выплясывала под ним, поблескивая копытами, кидая снег. За ним поскакали все, – и Латугин с привалившимся к нему Шарыгиным, и насупившийся от стыда и горя в широкую бороду пленный казак, которому развязали руки.
Кавалеристы несказанно удивились вопросу Сергея Сергеевича: что это за кавалерия, идущая так быстро в походных колоннах, теперь уже смутно виднеющихся сквозь туман и дождь?
– Как, что за кавалерия? То ж бригада Семена Михайловича Буденного.
– Отдохнули немножко, Дарья Дмитриевна? Что-то личико озабоченное? С утра-то и не покушали? Так, так… А я целое ведро молока надоил. Сбегал бы, честное слово, принес, – красноармейцы все съели. Хлеба мы накрошили и втроем прититюшили. Вот как животы набили…
Кузьму Кузьмича распирало от переизбытка жизни. Даша не могла смотреть на его лицо, обритое наголо, – до того оно было неприличное: маленький суетливый подбородок и рот, такой откровенный и голый, будто сам просился, чтобы его прикрыли… Даша проснулась поздно, ни в хате, ни на дворе никого уже не было. В воздухе пахло оттепелью, хлевами, по камышовым крышам цеплялись клочья тумана. Кузьма Кузьмич увидел ее с соседнего двора, живо перелез через плетень и давай вокруг нее притоптывать, потирая маленькие грязные руки.