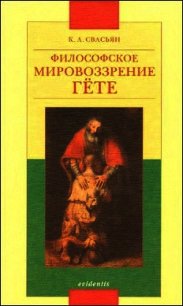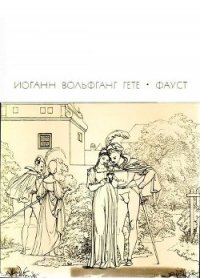Лотта в Веймаре - Манн Томас (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Итак, если отъезд нашего юноши, его союз с третьей даровал мне желанный покой, то я с радостью убедилась, что и Оттилии ее размолвка с Августом принесла известное умиротворение. Да, невзирая на светскую молву, Оттилия все же призналась мне, что она этот разрыв считает счастьем и освобождением и что теперь ее сердце сможет, наконец, отдохнуть в мирном безразличии от мучительных раздоров, всегда сопутствовавших этой дружбе. Теперь она может без помехи предаться благоговейному культу памяти Фердинанда и посвятить себя утешению несчастной матери. Слушать это было отрадно, и все же сомнения и страх меня не покидали. Август – сын Гете, вот его основное качество. В лице Августа мы имели дело с великим отцом, который, безусловно, не одобрял разрыва с «амазоночкой», совершившегося без его согласия, и, несомненно, собирался сделать все возможное, чтобы восстановить мир между ними. Я знала, что он всячески поощрял союз, мысль о котором приводила меня в содрогание; сумрачная страсть сына к Оттилии была лишь следствием его желания и воли. Сын любил в ней тип, излюбленный отцом. Его любовь была подражанием, наследием, подчиненностью, отречение же от нее – проявлением мнимой самостоятельности, мятежом, силу сопротивления которого я, к сожалению, расценивала не очень высоко. А Оттилия? Верно ли, что она совсем отошла от сына великого отца? Можно ли было считать ее спасенной? Я сомневалась – и сомневалась недаром.
Сокрушенный вид, с которым она выслушивала известия и все множившиеся слухи об образе жизни Августа, только подтверждал справедливость моего неверия. Все сошлось, чтобы подорвать нравственные устои юноши, послать его на поиски забвения, бросить в объятия пороков, к которым всегда была склонна его подверженная сомнительным порывам и опасно-чувственная натура. Пятно, оставшееся на нем от этой злосчастной добровольческой истории, размолвка с Оттилией, приведшая не только к внутреннему, но, вероятно, также и к внешнему конфликту с отцом, а следовательно, и с самим собой – я перечисляю все это не для того, чтобы оправдать беспутную жизнь, о которой шушукались все наши обыватели, но чтобы хоть как-то объяснить ее. Мы слышали о беспутстве Августа со всех сторон; между прочим, также от Шиллеровой дочери Каролины и ее брата Эрнста, которые жаловались на ставший уже непереносимо придирчивым характер молодого Гете и его дикие выходки. Рассказывали, что он потерял всякую меру в питье и однажды ночью в пьяном виде замешался в какую-то постыдную драку, кончившуюся арестом; отпустили его только из уважения к имени отца и по той же причине замяли все дело. Его связи с женщинами, с простыми бабами, стали достоянием всего города. Павильон в саду, у земляного вала, предоставленный ему тайным советником для его коллекций минералов и ископаемых (ведь Август подражал и на свой лад предавался коллекционерской страсти отца), по слухам, нередко служил приютом для предосудительных встреч. Мы знали об интрижке с солдатской женой, муж которой смотрел сквозь пальцы на эту связь из-за щедрых даров, приносимых ею в дом. Это была особа долговязая и угловатая, хотя и отнюдь не безобразная. Все общество покатывалось со смеху над словами, которые он будто бы сказал ей: «Ты свет моей жизни», – она сама разболтала их, надо думать из тщеславия. Потешались также и над скандалезной, хотя и забавной историей: будто однажды вечером старый поэт неожиданно столкнулся в саду с этой парочкой и со словами: «Не стесняйтесь, детки», – счел за благо быстро удалиться. За достоверность я, конечно, не ручаюсь, но мне это кажется правдоподобным, так как здесь речь идет, мягко говоря, об известной моральной снисходительности великого человека, которую многие ставят ему в упрек, но о которой я судить не дерзаю.
Дозвольте мне попытаться словами выразить то, над чем я так часто ломала голову – с не совсем чистой совестью, вернее, мучимая сомнениями, – подобает ли мне, или вообще кому бы то ни было, предаваться такого рода размышлениям? Мне казалось, что некоторые черты, неудачно и разрушительно проявившиеся в сыне, повторяют черты великого отца, хотя установить их тождество очень нелегко, не говоря уже о том, что благоговение и пиетет отпугивают нас от этой попытки. Но у отца это черты, так сказать, высокого полета, просветленные, плодотворные, они восхищают нас и несут нам радость, в качестве же сыновнего наследства оборачиваются грубостью, мраком, опустошенностью, проступают открыто и бесстыдно во всей своей нравственной неприглядности. Возьмите, к примеру, роман столь прекрасный, столь чарующий, как «Избирательное сродство». Эту гениальную и утонченную поэму прелюбодеяния филистеры нередко упрекали в безнравственности, но, разумеется, всякий, кто способен классически мыслить и чувствовать, должен отвергнуть такой упрек как несуразное ханжество или только презрительно пожать плечами. Но, с другой стороны, такой ответ вряд ли можно назвать ответом по существу. Кто станет по совести отрицать, что в этом великом произведении и вправду есть элемент чего-то нравственно-сомнительного, фривольного, более того – простите мне это слово! – лицемерного, какое-то нечистое заигрывание со святостью брака, недосказанная и фаталистическая уступка таинству естества. Даже смерть – смерть, понимаемая нами как способ, которым нравственная природа охраняет свою свободу, разве она не представлена там потатчицей, не изображена последним сладостным прибежищем любовного вожделения? Ах, я понимаю, каким нелепым, каким кощунственным это должно казаться: в необузданности Августа, в его распутной жизни усматривать отлитые в неудачную форму те же самые задатки, что подарило человечеству «Избирательное сродство». Но я ведь уже говорила об угрызениях совести, временами сопровождающих критическое искательство правды, а ведь отсюда возникает дилемма – стоит ли доискиваться истины, является ли она достойной целью наших познавательных способностей, или существуют на свете истины запретные?
Так вот, Оттилия с таким волнением, с такой болезненной тревогой относилась к вестям о похождениях господина фон Гете, что трудно было поверить, будто она и впрямь не заинтересована в нем. Ее ненависть к солдатке была очевидна, – но этой ненависти можно было бы подыскать и другое название. Конечно, отношение чистой женской души к особам, которых ее избранник дарит чувственным благоволением, тем самым давая им известные, пусть недостойные, но все же реальные преимущества, – это дело темное. Презрение и брезгливость не позволяют покинутой утратить чувство собственного достоинства. Но тот особый вид зависти, который зовется ревностью, заставляет нас, вопреки нашей воле, подымать до себя этих презренных, видеть в них равноправный объект ненависти – равноправный благодаря общности пола. А может быть, и безнравственность мужчины, несмотря на отвращение, которое она в нас возбуждает, все же имеет такую глубокую и страшную привлекательность для чистой души, что может сызнова разжечь угасшее было чувство, заставить нас проникнуться духом жертвенности, стремлением ценой собственных страданий вернуть мужчину к его второму, лучшему «я».
Короче говоря: меньше всего я верила в то, что моя любимица не откликнется на попытку сближения со стороны Августа, и в то, что он, рано или поздно, не сделает этой попытки, повинуясь руководящей им высшей воле, против которой он своим разрывом с Оттилией однажды вздумал безуспешно взбунтоваться. Мои ожидания и опасения сбылись. В июне прошедшего года – этот вечер я никогда не забуду – мы стояли вчетвером в зеркальной галерее дворца – Оттилия, я, наша приятельница Каролина фон Гаршталь и господин фон Гросс, – когда Август, давно сновавший вокруг нас, вдруг приблизился и вступил в разговор. Вначале он ни к кому в отдельности не обращался, но затем – то был момент чрезвычайно напряженный и потребовавший от всех присутствующих значительной доли самообладания – задал Оттилии какой-то вопрос. Разговор продолжался в обычном светском тоне, вращаясь вокруг мира и войны, списков убитых, мемуаров Августова отца, прусского бала с его знаменитым котильоном; но в глазах молодого Гете светилось при этом обожание, ничуть не соответствовавшее безразличию наших и его слов. А при прощании, когда мы сделали ему реверанс (мы давно уже намеревались уйти), пламя страсти в его глазах разгорелось еще ярче.