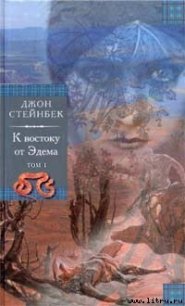К востоку от Эдема - Стейнбек Джон Эрнст (книги читать бесплатно без регистрации .txt) 📗
Знай немцы Оливию и будь они поумнее, они бы из кожи вон вылезли, только бы ее не прогневить. Но они се не знали, а может, были дураки. Убив Мартина Хопса, они проиграли войну, потому что моя мать пришла в бешенство и взялась за них, засучив рукава. Она любила Мартина Хопса. Он за свою жизнь и мухи не обидел. Когда немцы его убили, Оливия объявила Германской империи войну.
Она долго подыскивала смертоносное оружие. Вязать шерстяные шлемы и носки было, по ее мнению, недостаточно свирепой расправой. Некоторое время она носила форму медсестры Красного Креста и вместе с другими аналогично одетыми дамами ходила в учебный манеж, где они щипали корпию и чесали языки. Это было неплохо, но все же не могло нанести удар кайзеру в самое сердце. У Мартина Хопса отняли жизнь, и Оливия жаждала крови. Искомым оружием для нее стали облигации военного займа «Свобода». И хотя Оливия никогда прежде не занималась торговлей — разве что изредка выставляла свои торты с воздушным кремом на благотворительных аукционах в подвале англиканской церкви, — она вскоре начала продавать облигации пачками. Работала она как зверь, яростно и неукротимо. Мне думается, она нагоняла на людей такой страх, что мало кто осмеливался ей отказать. Ну а уж те, кто у нее покупал, чувствовали себя настоящими бойцами, облигации были для них штыком, который они вонзали в брюхо Германии.
Когда ежемесячная выручка Оливии подскочила до рекордной цифры и продолжала удерживаться на том же уровне, министерство финансов обратило внимание на новоявленную амазонку. Поначалу ей посылали стандартные благодарности, распечатанные на ротапринте, но потом Оливия стала получать и настоящие письма, подписанные министром финансов, — там действительно стояла его личная подпись, а не факсимиле, оттиснутое резиновой печатью. Мы гордились матерью, но наша гордость возросла стократ, когда посыпались премии и подарки: немецкая каска (ни на одного из нас она не налезала), штык, искореженный осколок шрапнели на красивой черной подставке. Мы еще не достигли призывного возраста, нам дозволялось лишь маршировать с деревянными винтовками, и потому война, которую вела Оливия, в какой-то степени оправдывала наше собственное неучастие в вооруженном конфликте. А потом наша мать превзошла самое себя да и вообще всех, кто распространял облигации в этом районе Америки. Она в четыре раза превысила свой прежний и без того сказочный рекорд и была удостоена небывалой награды — ее решили покатать на военном самолете.
Как же мы раздулись от гордости! Даже косвенная причастность к столь великому событию была для нас невообразимой честью. А бедняжка Оливия… надобно вам сказать, что уж если моя мать не верила в существование каких-то предметов или явлений, даже самые неопровержимые доказательства не могли поколебать ее неверия. Так, во-первых, она не верила, что человек, носящий фамилию Гамильтон, может быть плохим, а во-вторых, не верила, что существуют самолеты. То, что она не раз видела их собственными глазами, не играло ни малейшей роли — она все равно не верила.
Вспоминая, на что она решилась, я пытаюсь представить себе, какие она при этом испытывала чувства. Душа ее, вероятно, цепенела от ужаса, потому что разве можно полететь на чем-то, чего не существует? Если бы самолетную прогулку ей уготовили в виде наказания, это было бы жестоко и несколько необычно, но в данном случае полет предлагался ей как награда, как премия и почесть. Заглядывая в наши сияющие глаза, мать, должно быть, видела там восторженное благоговение и понимала, что попалась в ловушку. Не полететь значило обмануть ожидания семьи. Ее загнали в тупик, единственным достойным выходом из которого была смерть. Раз уж она решилась подняться к небу в несуществующем предмете, то, видимо, даже не помышляла остаться в живых.
Оливия составила завещание — потратила на это немало времени и, чтобы ее последняя воля имела законную силу, заверила документ у нотариуса. Затем она открыла свою шкатулку красного дерева, где хранила письма мужа, начиная с самых первых, написанных еще до помолвки. Оказывается, он писал ей стихи, а мы и не подозревали. Разведя в плите огонь, она сожгла эти письма, все до единого. Они были написаны ей, и она не желала, чтобы их прочел кто-то еще. К дню полета она купила себе новое нижнее белье. Мысль о том, что, найдя ее труп, люди увидят заштопанную или, хуже того, дырявую комбинацию, наполняла ее ужасом. Возможно, все это время ей казалось, будто Мартин Хопс, кривя широкий рот, глядит на нее своими застенчивыми глазами, и у Оливии было ощущение, что она вроде как возмещает ему ущерб, причиненный утратой жизни. С нами она в эти дни была очень ласковой и не замечала на кухонном полотенце жирных пятен от плохо вымытых тарелок. Триумфальное событие намечалось провести на Салинасском ипподроме. Нас туда повезли на армейском автомобиле, мы ликовали от сознания своей исключительности и, наверно, на самых пышных похоронах держались бы менее торжественно. Наш отец работал на сахарном заводе «Спрекла»в пяти милях от города и не смог отпроситься, а может быть, сам не захотел ехать, боясь, что не вынесет нервного напряжения. Но Оливия, пригрозив, что вообще не сядет в самолет, заранее договорилась, чтобы сначала — летчик попытался долететь до сахарного завода, а уж потом, пожалуйста, они могут разбиться.
Теперь-то я понимаю, что сотни людей, собравшихся на ипподроме, пришли просто поглазеть на самолет, но тогда мы были уверены, что они явились воздать почести нашей матери. Оливия была невысокого роста и с возрастом располнела. Нам пришлось помогать ей, когда она вылезала из машины. Вероятно, сердце ее заходилось от страха, но маленький подбородок был решительно вздернут.
Самолет стоял посреди ипподрома. Он был крошечный и на вид ужасающе хрупкий — биплан с открытой кабиной и с деревянными шасси, обмотанными проволокой. Крылья были обтянуты парусиной. Оливия оторопела. К самолету она пошла, как агнец на заклание. Поверх платья — она была уверена, что это платье станет ее погребальным саваном, — два сержанта напялили на нее шинель, затем ватник, затем форменную кожанку, и по мере того, как Оливию одевали, она округлялась на глазах. Лотом на нее надели кожаный шлем и большие авиационные очки; в сочетании с се носиком-пуговкой и румяными щеками эффект получился сногсшибательный. Она была похожа на мяч в очках. Совместными усилиями сержанты подняли ее в кабину и втиснули в кресло. Она заполнила собой пассажирский отсек до отказа. Когда ее привязали к креслу, она внезапно ожила и отчаянно замахала руками. Кто-то из солдат взобрался на крыло, выслушал просьбу Оливии, затем подошел к моей сестре Мэри и повел ее к самолету. Оливия судорожно стягивала с себя толстые стеганые летные перчатки. Высвободив руки, она сняла колечко с бриллиантиком, которое муж подарил ей в день помолвки, и отдала его Мэри. Затем покрепче навернула на палец свое золотое обручальное кольцо, снова натянула перчатки и уставилась в пустоту. Пилот взобрался в передний отсек кабины, и один из сержантов налег всем телом на деревянный пропеллер. Самолетик отбуксировали к краю поля, он развернулся, с ревом промчался через ипподром и, дрыгаясь, поднялся в воздух, а Оливия все это время глядела перед собой, и глаза ее скорее всего были закрыты.
Мы следили, как самолет набирает высоту и удаляется от ипподрома, оставляя после себя тоскливую тишину. Ни члены комитета по распространению облигаций, ни друзья, ни родственники, ни даже рядовые зрители не думали расходиться. Превратившись в крошечную точку, самолет взял курс на сахарный завод и вскоре исчез. Вновь мы увидели его лишь через пятнадцать минут: он безмятежно плыл по небу на очень большой высоте. Вдруг мы с ужасом заметили, как он споткнулся и, Кажется, начал падать. Это падение длилось целую вечность, потом самолет выровнялся, вновь пополз вверх и описал петлю. Сержант рядом с нами рассмеялся. Несколько секунд самолет летел спокойно, но вдруг будто взбесился. Он делал «бочки», крутил «иммельманы», выписывал восьмерки, потом перевернулся и пролетел над ипподромом вверх ногами. Мы даже увидели шлем Оливии — маленький черный кругляш.