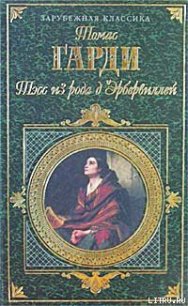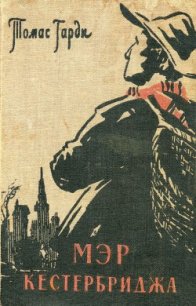Возвращение на родину - Гарди Томас (читать книги онлайн бесплатно полностью без .txt) 📗
КНИГА ТРЕТЬЯ
ОКОЛДОВАН
ГЛАВА I
МОЙ УМ ЕСТЬ ЦАРСТВО ДЛЯ МЕНЯ [20]
В лице Клайма Ибрайта смутно угадывался типический облик человека будущего. Если для нас настанет еще пора классического искусства, тогдашние Фидии будут создавать именно такие лица. Взгляд на жизнь как на что-то, с чем приходится мириться, сменивший прежнее упоение бытием, столь заметное в ранних цивилизациях, взгляд этот в конце концов, вероятно, так глубоко внедрился в самое существо передовых народов, что его отражение в их внешности станет новой отправной точкой для изобразительного искусства. Уже сейчас многие чувствуют, что человек, который живет так, что не изменяется ни единая линия его черт, который не ставит где-нибудь на себе метку духовных сомнений и тревог, слишком далек от современной восприимчивости, чтобы его можно было считать современным человеком. Великолепные физически мужчины - слава человеческого рода, когда он был юным, - теперь уже почти анахронизм; и почем знать, быть может, физически великолепные женщины рано или поздно тоже станут анахронизмом.
Суть, по-видимому, в том, что долгий ряд разрушающих иллюзии столетий в корне подорвал эллинскую - или как еще ее назвать - идею жизни. То, о чем греки смутно догадывались, мы теперь знаем точно; то, что их Эсхилы постигали мощью своего воображения, наши дети чувствуют инстинктивно. Старомодные восторги перед мудрым устройством мира становятся все менее возможны по мере того, как мы обнаруживаем изъяны в естественных законах и видим иной раз, в какую маету повергнут человек их действием.
Облик, воплощающий в себе идеалы, основанные на этом новом восприятии мира, будет, вероятно, сроден облику Ибрайта. Его лицо приковывало внимание не как картина, а как страница текста - не тем, каким оно было, а тем, о чем оно рассказывало. Черты его были привлекательны как символы, - так звуки, сами по себе обыденные, становятся приятны в речи, и формы, сами по себе простые, становятся интересны в письме.
Еще мальчиком он подавал надежды; все от него чего-то ждали. Чего именно, было неясно. Либо он мог как-то необыкновенно преуспеть, либо столь же необыкновенно осрамиться. Одно можно было сказать с уверенностью - он не останется мирно прозябать в тех же условиях, в каких родился.
Поэтому всякий раз, как какой-нибудь добрый Эгдонец случайно в разговоре упоминал его имя, собеседник тотчас же откликался: "А, Клайм Ибрайт! Что он теперь делает?" А уж если первое, что спрашивают о человеке, - это "что он делает?", значит, чувствуют, что его не застанешь, как многих из нас, за тем, что он не делает ничего особенного. Было, значит, у все t неопределенное ощущение, что он уже вторгся в какую-то непривычную для них область, то ли хорошую, то ли дурную. Причем все вслух благочестиво надеялись, что он добьется успеха, а втайне веровали, что он наломает дров. Пять-шесть зажиточных фермеров, которым случалось на обратном пути с рынка заезжать в своих таратайках к "Молчаливой женщине", хотя сами и не Эгдонцы, однако очень любили поговорить на эту тему. Да и как им было не затронуть ее, пока они отдыхали, посасывая свои длинные чубуки и поглядывая в окно на вересковые склоны? В отроческие свои годы Клайм был так тесно вплетен в жизнь вересковой пустоши, что почти невозможно было глядеть на нее и не вспомнить о нем. И вот рассказы возобновлялись: если Клайм сейчас где-то там приобретает богатство и известность, тем лучше для него; если ему суждено быть трагической фигурой, тем лучше для рассказа.
Надо сказать, что Ибрайт приобрел известность, и даже непомерно большую, еще раньше, чем уехал из дому. "Плохо, когда твоя слава опережает твои возможности", - сказал испанский иезуит Грациан. В шесть лет Клайм загадал библейскую загадку: "О ком из мужчин известно, что он первый на земле стал носить брюки?" - и весь Эгдон рукоплескал ему. В семь лет он написал "Битву при Ватерлоо" соком черной смородины и пыльцой тигровых лилий, за неимением акварели. И благодаря этому к двенадцати годам он уже, по крайней мере, на две мили кругом прослыл художником и ученым.
Но если слава человека распространилась на три или четыре тысячи ярдов, а слава других ему подобных за то же время всего на шестьсот или восемьсот ярдов, то уж, значит, в нем что-то есть! Возможно, конечно, что слава Клайма, как и слава Гомера, кое в чем зависела от случайных обстоятельств, но так или иначе, а славен он был.
Он вырос, и ему помогли стать на ноги. Судьба, эта охотница до шуток, сделавшая Клайва [21] в начале его жизни писцом, Гэя - торговцем льняными товарами, Китса - врачом и еще тысячи других чем-нибудь столь же мало для них подходящим, этого мечтательного и аскетического сына вересковых просторов присадила к ремеслу, в котором все заботы и помышления были связаны с нарочитыми символами тщеславия и потворства своим страстям.
Подробности этого выбора профессий излагать не стоит. Когда умер отец Клайма, один соседний помещик согласился по доброте душевной помочь юноше, и помощь его выразилась в том, что Клайма послали в Бедмут. Он не хотел туда ехать, но ничего другого не наклевывалось. Оттуда он попал в Лондон, а затем вскорости в Париж, где и оставался до сих пор.
Так как все привыкли чего-то ожидать от него, то не успел он прожить двух педель дома, как по всей пустоши стали любопытствовать, почему он сидит тут так долго. Обычный срок праздничного отпуска кончился, а он все не уезжал. В утро первого воскресенья после венчанья Томазин во время стрижки перед домом Фейруэя этот вопрос был подвергнут подробному обсуждению. Все местные цирюльне операции всегда происходили в этот час и в этот день; засим следовало в полдень великое воскресное мытье, а часом позже облачение в праздничные одежды. Так что на Эгдоне, собственно, воскресенье начиналось не раньше обеденного часа, да и то выглядело оно несколько помятым.
Эту воскресную стрижку всегда производил Фейруэй; очередная жертва сидела, сняв куртку, на чурбаке перед домом, а соседи, стоя вокруг, судачили о том о сем, лениво наблюдая, как после каждого щелчка ножниц ветер подхватывает клочья волос, взвивает их кверху и разносит на все четыре стороны. Зиму и лето обстановка оставалась одна и та же; только если ветер бывал уж очень безжалостен, чурбак передвигали на несколько футов за угол дома.
Пожаловаться на холод, пока сидишь там под открытым небом без шапки и куртки, а Фейруэй между двумя ударами ножниц рассказывает разные история из жизни, значило бы сразу заявить, что ты не мужчина. Вздрогнуть, вскрикнуть или шевельнуть хотя бы единым мускулом лица при небольших тычках копчиками ножниц под ухом или царапанье гребнем по шее было бы грубейшим нарушением хороших манер, тем более что Фейруэй делал все это бесплатно. И если у кого-нибудь под вечер в воскресенье замечались на голове или по соседству кровоточащие ранки и ссадины, то объяснение: "Да это я сегодня стригся", считалось вполне удовлетворительным.
Разговор о Клайме Ибрайте зашел после того, как его самого увидели не спеша идущим вдали по вереску.
- Ежели человек в другом месте хорошо зарабатывает, - сказал Фейруэй, так не станет он тут ни с того ни сего третью неделю околачиваться. Стало быть, что-то он задумал, вот увидите.
- Ну, у нас тут брильянтами не расторгуешься, - сказал Сэм.
- А зачел он два тяжелых ящика с собой привез, коли оставаться тут не хочет? Хотя что он тут делать собирается - это один бог ведает.
Подробно развить эту тему им не удалось, так как Ибрайт приблизился и, заметив кучку чающих стрижки, свернул к ним. Он подошел вплотную, критически оглядел их лица и сказал без всяких вступлений:
- Хотите, братцы, угадаю, о чем вы сейчас говорили?
- А что ж, попробуйте, - сказал Сэм.