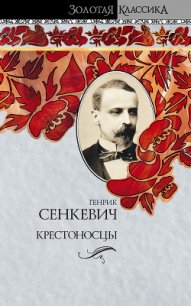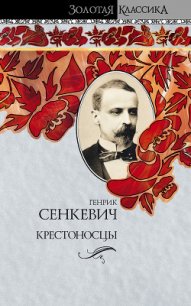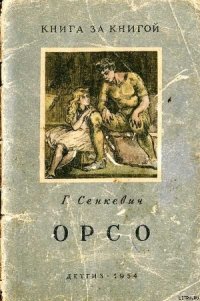Семья Поланецких - Сенкевич Генрик (читать полные книги онлайн бесплатно TXT) 📗
– А хорошо ли напоминать ей каждый день о покойной, раны бередить?
– Ах, да разве они затянулись, – отвечала Марыня. – И потом, как ей в этом отказать? Я тоже подумала сначала, ей будет очень тяжело; но убедилась, что это не так. Она выплакалась на кладбище, и ей стало легче. А на обратном пути все вспоминала Васковского, что он ей сказал тогда – это ее единственное утешение, единственное!
– Пусть хоть этим утешается, – отвечал Поланецкий.
– Знаете, первое время я избегала упоминать о Литке, но она сама о ней непрерывно говорит. И вы тоже не бойтесь разговаривать с ней о девочке, это ей доставляет облегчение. – И понизив еще больше голос, Марыня продолжала не совсем уверенно: – Она все казнит себя за то, что в последнюю ночь послушалась доктора и пошла спать. Жаль потерянных мгновений, которые она могла бы провести с Литкой, вот что не дает ей покоя. Сегодня, когда мы вернулись с кладбища, она все до мельчайших подробностей стала выспрашивать: как Литка выглядела, долго ли спала, принимала ли лекарство, что говорила при этом, разговаривала ли с нами… И заклинала меня передать каждое слово.
– И вы ей рассказали?..
– Да.
– Как же она к этому отнеслась?
– Расплакалась.
Они замолчали. Марыня первая нарушила затянувшееся молчание.
– Пойду посмотрю, как она. – Но тотчас вернулась со словами: – Слава богу, спит.
В тот вечер Поланецкий так и не видел пани Эмилию – она впала словно в летаргический сон. При прощании Марыня опять пожала ему руку, долго и крепко.
– Вы не сердитесь на меня за то, что я сказала Эмильке о последней Литкиной просьбе? – спросила она робко.
– Я не о себе сейчас думаю, а о пани Эмилии, – сказал Поланецкий. – И если ей от этого легче, я могу быть вам только признателен.
– Значит, до завтра?
– До завтра.
Поланецкий попрощался и подумал, спускаясь по лестнице: «Она уже считает себя моей невестой».
Так оно и было. Марыня действительно смотрела на него, как на жениха. Безразличен он ей никогда не был; сама степень ее обиды и недоброжелательства указывала на это. И если себе он во время болезни и похорон Литки казался воплощением эгоизма, в ее глазах он был сама доброта, добрее всех. Остальное довершили Литкины слова. Сердце ее было открыто для любви, и теперь, связав себя обещанием, поклявшись Литке перед смертью любить ее друга и выйти за него, она, по ее представлению, должна была бы, и не любя, полюбить Поланецкого. Любить его стало как бы обязанностью, долгом. Ибо жить для нес, как для цельной женской натуры, которые пока еще не перевелись, означало исполнять долг, причем не только добровольно, но и самоотверженно.
Понимаемый так долг сам порождает любовь, которая светит и греет, как солнце, умиротворяет, как ясное голубое небо. И жизнь уподобляется тогда не колючему, сухому терновнику, а пышному, благоухающему цветку.
Вот какая способность к жизни и счастью заложена была в этой выросшей в деревне, но здравомыслящей и тонко чувствовавшей девушке.
И когда Поланецкий ушел, она мысленно уже не называла его иначе, как «Стах». И в самом деле, в ее представлении он был теперь ее Стахом.
А Поланецкий машинально все повторял про себя перед сном: «Она считает себя моей невестой».
Смерть Литки и переживания последних дней оттеснили Марыню не только в мыслях, но и в сердце его далеко на задний план.
Теперь же он снова стал думать о ней и о своем будущем. И целый рой вопросов окружил его, ответить на которые он был не в состоянии, во всяком случае, сейчас.
Они его просто пугали, у него не было ни сил, ни желания опять возлагать на себя прежнее бремя. Опять начинать сначала, возвращаться в этот заколдованный круг, чтобы тревожиться и терзаться, стремиться к чему-то, что приносит лишь разочарование, мучиться любовью? Не лучше ли проверять с Бигелем счета, наживать деньги, а потом махнуть в Италию, как Букацкий, или еще куда-нибудь, где можно наслаждаться солнцем, искусством, пить вино, способствующее пищеварению, а главное, жить среди людей, тебе безразличных, чье счастье не согреет сердца, но зато и горе, смерть не заставят пролить ни слезинки.
ГЛАВА XX
Несмотря на душевные переживания Поланецкого, фирма процветала. Благодаря здравомыслию Бигеля, его осмотрительности и аккуратности дела велись безупречно, и у клиентов не было поводов для недовольства, жалоб и нареканий. Известность их торгового дома день ото дня росла, сфера его деятельности постепенно, но неуклонно расширялась, и положение упрочивалось. Поланецкий, хотя и лишился спокойствия, работал не меньше Бигеля. Утренние часы он ежедневно проводил в конторе, и чем тяжелей было у него на душе, чем запутанней становились их отношения с Марыней после ее переезда в Варшаву, тем с большим рвением он трудился. Эта утомительная и порой требовавшая большого умственного напряжения работа, никак, однако, не касавшаяся его терзаний и не растравлявшая их, стала в конце концов для него чем-то вроде тихой пристани, где он мог укрыться от житейских бурь. И он даже ею увлекся. «Тут, по крайней мере, знаешь, что делаешь и чего добиваешься, – говорил он Бигелю, – тут все предельно ясно, и если работа и не заменит мне счастья, деньги дадут независимость и свободу, и чем разумней ими пользоваться, тем лучше». Последние события лишь утвердили его в этом. И в самом деле, сердечные привязанности приносили только неприятности. Плод их был горек, тогда как деловые успехи были истинной усладой и надежной защитой от невзгод. Во всяком случае, ему хотелось так думать, хотя это было и не так. Он сам понимал, что свести свою жизнь к занятиям в конторе – значит обеднить ее, но сам же себя убеждал: раз иного выхода нет, благоразумней удовольствоваться этим; лучше быть преуспевающим коммерсантом, чем неудачливым идеалистом. И после смерти Литки твердо решил искоренять в себе душевные порывы, которые все равно обречены оставаться безответными и доставлять одни огорчения. Бигель, разумеется, одобрял такую перемену в умонастроении своего компаньона, поскольку она шла на пользу дела.
Однако Поланецкий не мог за несколько недель перемениться настолько, чтобы охладеть ко всему, что еще недавно было ему дорого. И время от времени ходил на Литкину могилу, к надгробью, которое бывало уже по-зимнему заиндевелым по утрам. Дважды встречал он на кладбище пани Эмилию с Марыней и один раз отвез их в город. Пани Эмилия поблагодарила его по дороге за память о дочке, и Поланецкий обратил внимание на ее почти спокойный тон. Причина стала ему ясна, когда она сказала при расставании: «Я все думаю, что в сравнении с вечностью разлука наша – как мгновенье ока, и Литка поэтому не тоскует; вы даже представить себе не можете, какое это утешение для меня!» «Да уж, чего не могу, того не могу», – сказал про себя Поланецкий. Но убежденность пани Эмилии его поразила. «Если это обман, – подумалось ему, – то обман во спасение, ведь даже в смерти понуждает он искать силы для жизни…»
И Марыня в первом же разговоре с ним подтвердила: да, пани Эмилия живет только этой надеждой, которая смягчает ее горе. По целым дням только о том и говорит, повторяя с какой-то одержимостью; разлука для живущих жизнью вечной – лишь краткий миг. И эта одержимость Марыню начинала даже беспокоить.
– Так говорит, будто Литка жива и они не сегодня завтра увидятся.
– Но в этом ее спасение, – заметил Поланецкий. – Васковский оказал ей огромную услугу. Пусть думает как хочет, вреда от этого не будет.
– Да она и права, ведь так оно и есть.
– Не будем об этом спорить.
Хотя Марыню беспокоила навязчивость, с какой пани Эмилия возвращалась к мысли о жизни вечной, она сама ее разделяла, и скептицизм, сквозивший в словах Поланецкого, немного ее покоробил и огорчил.
Но, не желая этого показывать, она перешла на другое.
– Я отдала увеличить фотографию Литки. И из трех карточек, которые вчера принесли, одну решила отдать Эмильке. Хотя сперва побоялась, не слишком ли это ее взволнует. Но теперь вижу, что это, наоборот, будет ей очень приятно.