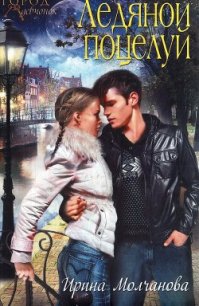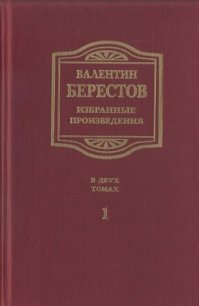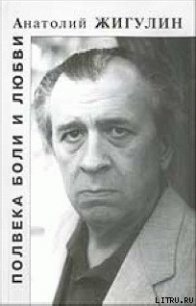Краткие повести - Консон Лев Фейгелевич (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
— Это, товарищ майор, людоед.
Майор сказал:
— А как бы ты, Дегтярев, поступил?
— Что вы, товарищ майор; я б скорей повесился.
— Не ври, Дегтярев. Это судьба так повернула. Вся разница меж вами та, что они стали есть человечину на втором месяце, а ты б стал жевать ее на втором дне.
Несколько секунд длилось молчание. Потом Дегтярев засмеялся. Засмеялись и дежурные — видно, понравилась им шутка начальника.
Я не очень задумывался над смыслом жизни вообще и моей жизни в частности. Стыдно признаться, но талантливым завидовал, сам хотел быть ярким, пыжился, да вот не получалось. Если бы не изолятор, так и прожил бы, не узнав своего предназначения. Понадобились долгие месяцы одиночной камеры, чтоб убедиться, что и я не обойден Божьей милостью, что и в меня Господь заронил Свою искру. Теперь о деле.
Когда сидишь в следственном изоляторе, то очень важно держать связь с соседями. К сожалению, не все умеют перестукиваться. Вот поэтому нужно знать слабые места в стене. Желательно также, чтоб места эти были под нарами или прямо в углу за парашей (то есть, по возможности были недоступны взору «волчка»). За два года изолятора я исковырял стены многих камер. Вот тут- то и воссияли способности, раньше дремавшие во мне. Достаточно было мне взглянуть на стену, чтобы определить нужную точку. В этом деле во всем изоляторе (и может быть, не только в нашем!) не было мне равных.
Если кого-либо заинтересуют тонкости этого ремесла, то придется мне остановиться на них подробнее (возможно, в отдельной брошюре). Предупреждаю, что тут все не просто, процесс этот сродни творческому, и речь здесь пойдет не только о проволоке, которой перевязывалась метла, и дужке от параши, но и о таких понятиях, как о вдохновении, прозрении, интуиции, голосе свыше.
Вы еще отверстия не проковыряли, а уже должны знать, чем его замазывать и закрывать будете. Сделать это надо так, чтобы к проверке место это совершенно не выделялось. Проверялась же камера два раза в день. На первых порах не все было гладко, и на пути к совершенству мне не раз приходилось делать остановки в карцере. Все же, оглядываясь назад, хочу сказать, что все трудности и страхи ничего не стоили по сравнению с блаженством, которое испытывал я, стоя или лежа у готового отверстия. Легонько барабанишь в стену, прикладываешь ухо и слышишь голоса иных миров…
Рисковали каждую минуту и поэтому говорили самое нужное, самое-самое… Изолятор всегда переполнен, а тут еще привезли большую группу, обвиняли ее в принадлежности к ордену «Креста белых лилий». Я в это время как раз сидел рядом с камерой смертников, в ней из этой группы сидел Щукин, потом Мелких, Златай. Златай просил рассказать о нем жене, родным, но я адреса не запомнил и просьбу не выполнил. Из Венгрии он. Глеб Слученков был из нашей группы. Чем-то женщины ему не угодили, и уж если он говорил о них, то только гадости. А как попал в камеру смертников, так удивил меня. Просил найти в Рязанской области село Шатское, а в нем Александру Илларионовну Шалаеву и сказать ей, что любил он ее всю жизнь и думал только о ней. Смертную казнь ему заменили, а расстреляли уже потом, в Джезказгане во время восстания. Я был в селе Шатском, она там учительницей работает, говорят, семья хорошая, муж, двое детей. Я не решился передать ей весть с того света. Пусть живет спокойно. Но до сих пор не уверен, что поступил правильно.
Потом в другую камеру меня перевели, женщина сидела рядом. Плакала очень, ребенок дома у нее. Мне жалко было, успокаивал как мог, рассказывал, как нужно вести себя на следствии. Пытался помочь. А потом стал волноваться, когда ее долго держали у следователя, злиться, когда дежурный хамил ей, ревновать, когда вертухай уводил ее в баню. Как-то вывели ее мыть полы в коридоре, она улучила момент и открыла «волчок» моей камеры. Так вот и увидела меня. А я ее не видел никогда. Потом она сказала, что благодарна мне, что спас я ее, что я хороший и что полюбила меня. Я сказал, что и я люблю ее. Мы многое сказали в те дни и было нам хорошо, но только мучительно очень. Потом увели куда-то. Наташей звали ее.
О многих хотелось бы рассказать, но это как- нибудь потом, и о Леве Алексееве обязательно расскажу. Человек он дикий, дремучий, умный. Человек он чрезвычайно интересный. Он слово знал свое, оно ему помогало. Рассказать? В изоляторе все передумаешь, всю прошлую жизнь переберешь, за будущую возьмешься. Все как надо разложишь, смысл найдешь и поймешь, что даже самая захудалая мыслишка, когда-либо посетившая тебя, была нужна и к делу пригодилась. Мне вот с детства, как помню себя, картина одна покоя не дает. Я не знаю, где это было. И не знаю, было ли это вообще. Думаю, что не было в моей жизни места для этой картины, но ведь прошли десятилетия, а она стоит перед глазами, и каждая деталь осталась на своем месте.
Недалеко от леса стоит двухэтажный дом. В левой его половине на верхнем этаже большая низкая комната. Оконные квадраты лунного света четко врезаны в пол. Паутина. Запустение. В дальнем правом углу комнаты лестница ведет на чердак. Люк чердака открыт, там тоже лунный свет. Он освещает лестницу, по лестнице спускается худой сутулый старик. Волосы белые, а от луны они еще белей. Он громко смеется, и смех его странен.
Я рассказал это Баркансу Никодиму, и он мне потом сказал: «Ты никому не рассказывай про эту картину. У человека должна быть картина, человек должен иметь свою картину. Никому не говори о ней».
Отверстие было под нарами. Я лежал там и думал о словах Никодима. Было тихо. Я не знаю, сколько это длилось. Потом открылась кормушка, и я услышал: «А ну, вылазь! Сейчас в карцер пойдешь!» Под нарами было хорошо, но нужно вылезать. А еще я подумал, что уж раз попался и уж если приходится вылезать на глазах у дежурного «Уха», то хорошо б это сделать хоть с каким- то подобием достоинства. Я вылез из-под нар на четвереньках, поднял голову и посмотрел в довольное лицо дежурного «Уха», потом поднял голову еще выше и громко протяжно залаял.
«Ухо» не врал, и если б действительно это зависело от него, то обещанный мне карцер я б получил, но решал не он, а Дегтярев. А Дегтярев с фантазией. Он даже свою нудную работу сумел сделать интересной. Именно в силу свой любознательности он посадил ко мне нациста из дивизии «Гитлерюгенд». Целый день Дегтярев не отходил от «волчка», а когда его сын пришел из школы, так они вместе наблюдали.
Карл Пурзель и правда был фанатиком, но к тому ж еще и умным парнем, так что радости Дегтярев не получил (как бы хотел я, чтоб встреча эта не прошла для Карла бесследно).
А тут случай подвернулся не менее удачный: типа странного привезли. Он на лесоповале убил двоих. В изоляторе его сперва бросили в общую камеру, так он там старосту чуть не придушил. С тех пор держали его в одиночке. К нему никого не сажали и вообще старались не задевать. Он и так с поводом и без повода заводился моментально.
Дегтярев сказал: «Все стены ковыряешь? Додумался, теперь лаять начал. Грамотный очень. Не хочешь по-хорошему, поймешь по-плохому. В седьмую пойдешь. К Алексееву полоумному».
Повели меня в седьмую. Дверь открыли, втолкнули и быстро захлопнули. Псам интересно. Сынишка прибежал, а «волчок» один. Пришлось кормушку открыть. Туда при желании рыл пять можно втиснуть. Встал я у двери. Во рту пересохло. Боюсь шаг в камеру сделать. А сзади шипят, толкают, не видно им. Говорят: не стеклянный, загораживаю.
По камере метался человек чуть выше среднего роста, нос орлиный. Лицо может и не длинное, но глубокий шрам вдоль правой щеки делал его таким. Без рубашки, в шароварах, в сапогах. Он не обращал внимания ни на возню у кормушки, ни на меня, а все бегал и бегал. Потом, не глядя, бросил: «Ты по какой статье?» Я сказал: «Политика, 58-я». Он остановился, внимательно посмотрел и медленно протянул: «Зачем ты ерундой занимаешься? Ведь у тебя умные глаза». Затем прыгнул на нары и уж весь вечер не слезал. Кормушка захлопнулась, закрылся «волчок».