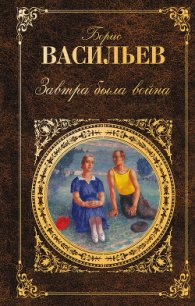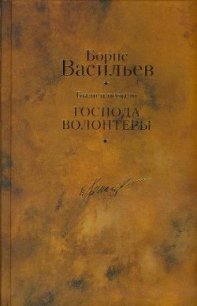Красные Жемчуга - Васильев Борис Львович (хороший книги онлайн бесплатно .txt) 📗
— Привезу, подруга моя, непременное дело привезу.
— Ох и заругают тебя! — вздохнула на прощанье Тихоновна.
Но старуха и не расслышала этого прощального вздоха. Идея, которая внезапно осенила ее, была проста: поехать в город и попросить внука помочь достать иконку.
Она бывала в городе ежегодно, а причина заключалась в том, что в середине декабря к ней в Красные Жемчуга непременно приезжал зять — иногда с Лариком, чаще один, но всегда с остро отточенным немецким кинжальным штыком в чемодане. Этим штыком он самолично колол откормленных свиней, умело разделывал туши, а потом пристойно пил три дня под свежую убоину. Он ценил весь процесс — от неистового предсмертного вопля до жареного ливера, — но колоть все же любил больше всего. Спозаранку, когда еще только кипятилась вода, заготовлялись тазы и ведра, он пребывал в приподнятом настроении, напевал, подправлял на оселке штык и шел в закут, шагом торжественным и неспешным. И колол артистически, с одного удара пронзая свинячье сердце; ловко подвешивал тушу на балку, перерезал горло, спуская кровь, и начинал азартно, с почти чувственным наслаждением разделывать, ловко швыряя по тазам и ведрам ливер, сало, куски мяса. В этот момент бесцветные глаза его словно загорались изнутри, окровавленные руки работали с вдохновением и точностью хирурга, и ликующий смешок, похожий то ли на страстный всхлип, то ли на довольный клекот, сам собой рвался из груди. Работал он без перерыва и помощников до изнеможения, но не покидал закута, пока не заканчивал разделки. Потом шел в истопленную тещей баньку, долго парился, возвращался тихим и умиротворенным и выпивал в три приема бутылку под свежий ливер. А на следующий день все повторялось, и так как старуха ежегодно выкармливала троих, то все и укладывалось в три дня неимоверной работы, неимоверного торжества и неимоверного наслаждения. А потом мясо грузили в «Ниву», зять сажал тещу в машину и вез в город, где она и продавала свежую свининку на рынке аккурат перед самыми новогодними праздниками. И жила у дочери, пока не распродавала всего, после чего ее отправляли назад на машине, в которой заодно подбрасывали и корм на будущую партию: жмых или комбикорм, гнилую муку или отруби, заранее насушенные сухари и все, что только удавалось достать. Неделю, а то и дней десять старуха отдыхала, а потом зять привозил новую троицу розовых, визжащих поросят, которым через десять-одиннадцать месяцев надлежало стать предметом рыночной торговли, и цикл начинался заново. И все к этому привыкли, все в это втянулись; старуха выкармливала, зять колол, дочка где-то работала, Ларик где-то учился, а теперь, как вдруг выяснилось, затосковал по ликам святым.
Собралась старуха быстро, да и что было ей особо собираться: не невеста, не молодка, да и нарядов-то — ровно один, в котором на рынке торговала. Ей очень хотелось привезти хоть каких-нибудь гостинцев последней своей родне, но в огромном пустом ее доме давно уже ничего не водилось, кроме того, без чего невозможно было обойтись в хозяйстве. Она прекрасно знала об этом и все же зачем-то рылась в сундуке, перебирая старое, никому не нужное тряпье. На самом дне под тряпками лежала деревянная шкатулка, которую когда-то — давным-давно! — сделал ей, невесте, ее будущий муж: там хранились редкие письма с фронта — пять от мужа да по два от сынков, похоронки, какие-то старые справки, бумажки, документы, осоавиахимовский билет Шурика и орден Отечественной войны мужа, который вручили ей в сельсовете на вечное хранение уже после войны. И сейчас, наткнувшись, развернула и долго глядела, потому что вспомнила вдруг сон, безгласые, забитые землею рты и черные провалы вместо глаз. Орден был ее единственной ценностью, и старуха ясно представляла себе и то, что это ценность, и то, что она у нее единственная. И что если ее украдут, пока она будет в городе, то украдут не орден, не вещь, а саму память о муже, реликвию, нечто столь же святое, как икона. Старуха завернула орден в тряпочку и спрятала на груди под кофтой, будто нательный крест, который ее заставил снять собственный муж еще в те времена, когда жег последние иконы.
С утра зарядил дождь, и старуха добиралась от Красных Жемчугов до родного села долго и тягостно. Сперва ее подвез тракторист, ехавший на молочную ферму. Далее поплелась пешком, а дождь не утихал, и она порядком промокла, когда ее нагнал грузовик.
— Садись, мать!
Шофер оказался пожилым, добродушным и разговорчивым. Был он из местных, из села, но старуха его не знала, а он быстро выяснил, кто она и откуда. И почему-то очень обрадовался:
— Значит, это твой бедноту на выселки увел? Ну, история, нам об этом еще в школе рассказывали! И все мужики в войну полегли? Вот оно, значит, как дело-то в Жемчугах обернулось. Что же, мать, до автобуса еще часа три, никак не меньше, так я тебя пока к своей мамане отвезу. Обсушишься, обогреешься, чайку попьешь.
Шоферская маманя оказалась помладше старухи, и старуха ее не помнила. А маманя старуху помнила, и мужа ее помнила, и митинг тот, на котором беднота решила отселиться ради новой жизни, и сам исход их из села — с красным флагом, гармошкой да песнями: тогда она, сегодняшняя шоферская маманя и бабка двоим внукам, была девчонкой-подростком, все замечала, все видела и все уложила в памяти своей.
— Помнишь, твой-то сказал, что революция, мол, всех поменяла и теперь тот хозяин, кто вчера рабом был, а тот, кто был хозяин, тот сегодня раб? А я помню, все помню! И еще так: это рабы, говорил, ждут от жизни милостей, а мы хозяева, мы сами возьмем милости эти. Вот постановим, что через пять лет будет у нас счастливая жизнь, и выполним такое свое постановление.
Уласканная, согретая и обсушенная, старуха наслаждалась чаем и воспоминаниями о собственной молодости. Ее память, надорванная четырехкратными потерями в войну, многое уже утратила, многое в ней истерлось и померкло, а у хозяйки голова была ясной, вспоминала она с удивленным восторгом, и старуха испытывала теплую благодарность и радость на душе.
— И тебя помню, ой помню! Все бабоньки в красных платочках, а ты — в белом. Под красным флагом шла рядом с мужем, ребеночек на руках, и пела звончей всех, а платочек на тебе — белый.
— Белый, белый, точно ты говоришь, милая, — беззубо улыбалась старуха. — А знаешь, почему белый-то? А потому, что забежала я к отцу своему, к батюшке родному, благословения на уход получить, а он меня за волосья да по всей избе, да по всему двору! Уж не знамо как вырвалась простоволосая из родительского дома, а косынка красная да полкосы там и остались, в руках у батюшки. И больно мне, и совестно, и реву я, и задами к тетке своей, к Степаниде Мироновне: помнишь ее? В проулке за лабазом купца Дергунова жила, мужа у ей в Гражданскую убили? Вот она мне свой платочек-то и дала. Дранную батюшкой родным голову покрыть.
— Ай, помню Мироновну, помню! — обрадовалась хозяйка и даже руками всплеснула. — Она все песни знала, и голос у нее был звонок, и ее на все свадьбы приглашали. И на моей она тоже песни играла и глядела, чтоб все по закону было, как положено и по обычаю.
— Вот, вот, она самая, тетка моя, — бормотала старуха, улыбаясь и утирая обильные слезы. — Вот, вот, значит, белый платочек…
Обсушили, обогрели, чайком напоили, и старуха три часа тряслась в автобусе с улыбкой. Дождь моросил, грязь под колесами хлюпала, из ухабов фонтанами била до самых окон, небо серое и низкое, и ветер, и дорожка районная — только зубы поспевай считать, у кого они есть! — а старуха улыбалась до самой станции.
Правду сказать, так не дальний путь и не пересадки ее беспокоили. Для нее все было простым и естественным, и никакие сложности жизни, никакие трудности бытия и быта не могли ни испугать, ни насторожить, ни даже удивить ее. И боялась она не встречи с ними, с трудностями, а встречи с «самим». С мужем единственной дочери, с отцом единственного внука, с зятем Эдуардом Леонтьевичем, который с таким виртуозным мастерством, с таким восторженным наслаждением колол и разделывал свиней. И очень страшилась предстоящей встречи и особо — объяснений, как смела покинуть свиней, которых откармливала по лично составленному «самим» рациону и режиму.