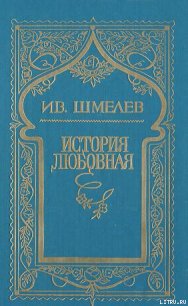Свет разума - Шмелев Иван Сергеевич (лучшие книги читать онлайн .txt) 📗
— Мятется во мне, и психологию я знаю, но это превыше всякой ученой психологии! Высший Разум — Господь в сердцах человеческих. И не в едином, а купно со всеми. Это и это, — показал он на голову и на сердце, — но в согласовании неисповедимом. Как у Христа. Ковыль только на целине растет. И укрепился я духом. Сказал Мише: „Ревнуйте, братики, Бог нам прибежище и сила!“ Будто и нехорошо? Да червячок-то по-червячиному хвалу поет, а свинья хрюкает! Да будем же хоть и по-свиному возноситься! И до орла. И до истинного подобия Бога-Света… Да как посмотрел на паству-то на свою — страшно и скорбно стало. Рвань та-ка-я, лица у всех убитые, зеленые, в тоске предсмертной. И сколько голодом поморили, а поубивали ско-лько! И все, чувствую, устремлены в упованье на меня: „Подаждь, Господи!“ И ропот во мне поднялся: „Куда же, Господи, ведешь нас?! Зачем испытуешь так?“
Вы знаете нашу пристань. Слева, где ресторанчик пустой на сваях, поближе к пристани, поставили они кресло под красным бархатом, и на том кресле, смотрю, сам окаянный сидит, Кребс-то наш, хозяин жизни и смерти, мальчишка, в лаковых сапогах и в офицерской папахе серой, и в светлом, офицерском, полушубке, с кармашками на груди. С убиенного снял себе! Сидит, как бес-Ирод, нога на ногу, развались, и курит. На позорище веры православной выехал! И свита его кругом, и трое за ним красных дураков наших, в шлыках и с ружьями. На позорище нашем угнездился. А у самой воды, на камушках, столик под розовой скатеркой, а на столике — бутылка для „причащения“ и чурек татарский. И стоит идол тот, в хорошей шубе, с лисьим воротником, морда багровая, в громаднейшей лисьей шапке, как с протодьякона, Ворон-то окаянный, и красным кушаком подпоясан, как купчина, мясник с базара. А сбочку, гляжу: дурак-то наш, интеллигент-то наш скудоумный и скудосердый, учитель Иван Иваныч! Как червь, тощий, длинноногая оглобля согнутая, без шапчонки, плешивенький, ноги голенастые, голые, из-под горохового пальтишка видны. Стоит и дрожит скелетом, на грязное море смотрит, „крещения“ дожидается. И татары возле него шумят, пальцами в него тычут, насмехаются. И все его шестеро ребятишек, босые, в пальтишках, жмутся! А его жена, гречанка, кричит на него источно, деток охраняет— вырывает, а он только ладошками взад отмахивается, ушел в себя. А Ворон из книги что-то вычитывает и рукой размахивает, как колдует. А Кребс покатывается на кресле и дым через папаху пускает, ногами сучит.
С пристани мне все видно. И такое во мне смятение!.. Возглашаю, а сам на трагедию взираю. Запели „Спаси, Господи, люди Твоя“… и иеромонах спустился по лесенке Крест в море погружать, и все на колени пали по моему знаку. И как в третий раз погрузили Крест, Ворон и приказал Ивану Иванычу в море погрузиться, а сам книгой на него, как опахалом. Тот скинул пальтишко — и бух по шейку! А Ворон руки воздел. Да хватился детишек, а мать их в народ запрятала! Тот, дурак-то, из моря машет, желтый скелет страшенный, и Ворон призывает зычно: „Идите в мой Вертоград!“ — а народ сомкнулся. И бакланы, помню, над дураком-то нашим вместо голубя пронеслись, черные, как нечистые духи! Слышу — кричат в народе: „Зачем дозволяют позорить веру?! В море его скинуть, Кребса, нечистого!“ А он — за ружьями! Покуривает себе. И потребовал от Воронова стакан вина. И, говорили, того дурака поздравил, селедку-то нашу скудоумную, скелета-то интеллигентного, учи-теля разумного! И тут во мне закипе-ло… и я воздел руку с орарем и крикнул в ожесточении и скорби, себя не помня: „Богоотступнику и хулителю православной веры Христовой, учителю Малову — ана-фе-ма-а-а!..“ — Не все слыхали за шумом, но ближе поддержали: „ана-фема!“ Иеромонах меня за руку, и дрожит… И все смешалось… Забухали с пристани за крестами человек тридцать! Побили все рекорды! Крик, гам… Подбадривают, визжат, заклинают, умоляют! На лодках рыбаки стерегут, помощь подают, вылавливают: которые утопать стали, с ледяной воды, от слабосилия! А там саженками шпарят, гикают… Брызг летит! Народ „Спаси, Господи, люди Твоя“ поет всеми голосами, иеромонах на все стороны Крестом Господним — на горы, и на море, и на подземное, и на демона-то того с Вороном… и я кистию окропляю — угрожаю, в гневе, и кругом плач и визг… А там — е-кстаз! Уж не для приза или молодечество показать, а веру укрепить! Три старика и хромой грек-сапожник ринулись. Бабы визжат: „Отцы родные, братики, покажите веру!“ А я и кадилом, и орарем, и кистию… Кричу рыком: „Наша взяла! Во Имя Креста Господня, окажи рвение, ребятки!“ И доказали! Прямо, скажу, стихия объявилась! Восемнадцать человек враз приплыли со крестами, семеро без крестов, но со знамением на челе радостным, остальных на лодке подобрали без чувств. Ни единого не утопло! Всех на подмерзлом камне сетями накрыли, вина притащили, — матрос с пункта пришел и сомкнулся с нами, и поздравлял за русскую победу! Праздников Праздник получился. И всем народом — „Спаси, Господи“, — ко храму двинулись. А Кребс не выдержал, убежал. А дурака, говорили, жена домой сволокла, без чувств…
Вот… понимаю: язычество допустил в пресветлую нашу веру. Но… всему применение бывает?.. И тревога мутит меня… Хотя, с одной стороны, после позора дурацкого, ни одна душа не пойдет тому дураку вослед, но… не превысил ли? Не имею благодати ведь? Хотя, с другой стороны, или — гордыня во мне это? Ведь поняли без слов! И в сем оказательстве… не мой, не мой!.. — всхлипнул от волнения и восторга дьякон и смазал ладонью по носу, снизу вверх. — А всего народа — Свет Разума?! По силе возможности душа сказала?..
— Конечно… и здесь — Свет Разума, — сказал я и почувствовал, что дубовая клепка с моей головы спадает.
— Согласны?!. — воскликнул радостный, как дитя, дьякон. — Ну, превышение… и тонкого духа нет… высоты-то! Но… что прикажете делать… на грошиках живем… последнюю нашу Св. Чашу отобрали… уж оловянную иеромонах привез, походную… Можно и горшок, думаю? Начерно все… но…
Он поднялся и поглядел на горы.
— Спою тропарек… петь хочется! Ах, чего-то душа хочет, интимного… С тем и шел. Пройдусь, думаю, на горы, воспою… И тревога во мне, и радость, покою нет…
Он пел на все четыре стороны — и на далекую белую зиму, и на мутные волны моря, и на грязный камень, и на дали. Дребезгом пел, восторженным.
— И вот, уж и победа! — воскликнул он, садясь и подхватывая колени. — Дурачок-то наш звал меня! В тот же вечер без памяти свалился. Сорок градусов! Три дня без памяти. Прибежала жена: „Идите, помирает!“ Прихожу, а там уж Ворон сидит, как бес, за душой пришел. Лежит наш дурачок Иваныч, и свечка восковая при нем горит, у иконы Спасителя. Плачет: „Не даю ему, а велит тушить… Вот, помираю, отец дьякон. Хочу войти, а его отвергаюсь… Уйдите, господин Воронов, посланник сатаны! Я был православный — и останусь!“ А тот погладил брюхо, и говорит: „Нет, вы уж отвергли капище, и жрец вас проклял! И приняли истинное крещение! Тайна сия нерасторжима!“ — „Нет, — говорит, — я только искупался, как дурак, и все недействительно“. Жена схватила ухват, да на того!.. „Уйди, окаянный демон, пропорю тебе чрево твое!“ Ну, тот ослаб. „Духовная гниль и мразь вы все!“ — прошипел и подался вперед ухватом. А я учителя успокоил. Говорю: „Собственно говоря, в совокупности обстоятельств моя анафема недействительна, а только сыграла роль для укрепления колеблющихся. И иеромонах так думает“. — „В таком случае, дайте мне вашу руку!“ И поцеловал мне, хотя и против правил. Дал слово всенародно исповедать веру. В регенты опять хочет. И через неделю оправился. Сводя итог, разумею, что… Но лучше уж вы скажите верное резюме!..»
И мы хорошо поговорили, на высоте.
Декабрь, 1926 г.
Севр.