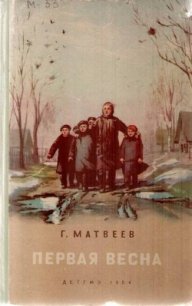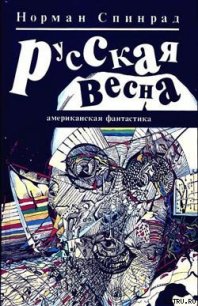История любовная - Шмелев Иван Сергеевич (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗
– А ну-ка, разок… ну-ка?…
Он метет под моим окошком, тычет метлой к кухарке:
Я распахнул окошко, – и меня закружило шумом, пахнуло теплом и холодочком, чем-то неуловимо тонким, что бывает всегда весною, – весной только. Как будто – снегом… – таился еще он где-то! – дыханием деревьев, почек и первой чудесной травкой, зеленой преснотцою, – откуда-то доносило струйки. Пахло и двориком весенним – теплевшей пылью, сенцом и дегтем. В тополе расклеились почки, текли смолою. Первые, светлые, листочки совались копьецами, лепились в пачках, хотели распускаться. Я высунулся в тополь, и меня затопила свежесть, теплынь и зелень, и воробьиный щебет, и блеск, и солнце. Я потянул за ветку… Она подалась так мягко – и в комнате все зазеленело и стало новым. Нежные, клейкие листочки светились солнцем, свер кали изумрудно. Я любовался ими, ловил губами. Губы мои и щеки заклеились, залились соком. Пустил на волю – и все закачалось в блеске, радостно закивало копьецами.
Я увидал все это – такого еще никогда не видел! – и весь задрожал от счастья.
Я радостно умылся – водой как пахло! – и стал утираться у окошка.
Галерея звенела солнцем, кололо глаза от стекол. Крыши, с танцующими голубками, ворковали. Сияла пролетка у колодца, сверкала голубая струйка. Голорукий дородный кучер брызгал на Пашу тряпкой, топтался в луже. Визгливая Паша изогнулась, отряхивая юбку, бойко кричала из-под локтя. Я смотрел на ее крахмальную юбку, на пляшущую ногу, и меня сладко-стыдливо волновало. Гришка подкрадывался сзади, но Паша увидала. Кучер тряхнул кудрями:
– Не подходи, бьет задом!…
Мальчишки сидели в холодочке, кусали ситный. Пузырились на них новые рубахи.
Я взглянул на подснежники в стакане и поцеловал их синюю густую свежесть.
Далекое, радостное утро!…
III
В это утро я собирался с Женькой на Воробьевы горы.
Первая весенняя прогулка! Снаряженная сумка поджидала еще с поста. Мы хотели исследовать овраги, ночевать под открытым небом, у костерка. Женька натолок даже «пеммикана», говяжьего порошка, «без чего не бывает экспедиций». Я добыл листового табаку – «бетеля».
Но в это утро желанная прогулка потускнела. Хотелось рассказать Женьке, и было стыдно. Но про книгу рассказать необходимо: что-то теперь он скажет?! Неужели опять все то же, – «сердечная дребедень!» – и сплюнет?
Я с нежностью посмотрел на книгу. Она лежала на подоконнике, как вчера, раскрытая на заглавии. Атласная белая бумага казалась разноцветной. Радужное пятно от солнца, через стакан, с отсветами подснежников, сияло на четких буквах. Я колыхнул стаканчик, и радужно заиграли буквы, забились зайчики. Было удивительно красиво.
«Неужели и „Первая любовь“ не тронет?! – раздумывал я о Женьке. – Ведь тут показана самая идеальная любовь, святое святых любви! Только стальные души и каменные сердца… Отчасти он прав, конечно… нельзя отдаваться любви безумно, предаваться изнеживающим наслаждениям, как Ганнибал в Италии… но надо же различать, если она идеально влечет к себе! Ведь даже князь Гремин, суровый полководец, весь изувеченный в боях, и тот страстно полюбил Татьяну и поет: „Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны!“ Благотворны! А Женька уверяет, что любовь – чепуха и дребедень!…»
Любви Женька не признавал и на женщин смотрел с презрением. «Бабье в жизни мужчины, – говорил он решительно, – как пушечное ядро на ноге у каторжника! Если хочешь совершить подвиги, не поддавайся чарам! Яркий пример – Самсон! Я читал в одной редкой книге… гм!… что к Наполеону перед решительным сражением под Аустерлицем привели такую красавицу немку, что даже старые маршалы почувствовали расслабление сил, и был момент, когда Наполеон задумался глубоко и… хотел поставить на карту все свое героическое прошлое, настоящее и будущее! Но… его Гений шепнул ему: „сырое мясо!“ – „Обыскать ее тряпки и вывести за черту лагеря!“ – крикнул Наполеон. И грянул бой. После победы Наполеон съел две порции бифштекса и сказал маршалам: „Не правда ли, друзья мои, что это прожаренное мясо не так опасно для славы и желудка, как сырое?“ Никто ничего не понял, и только потом уже догадались!»
Помню, на меня этот рассказ подействовал. Женька предлагал поклясться, что мы отныне никогда не предадимся изнеживающим наслаждениям, как Ганнибал в Италии, а примем за образец железный характер Цезаря. «Но ведь Цезаря называли… ты знаешь как!» – смущенно возражал я. «Да, называли „мужем чужих жен“! Знаю. Но это объясняется ухищрениями врагов!» – «Но его еще называли… „старый развратник“!» – «Может быть, к старости он и развратился и потому утратил славу и любовь народа! А я знаю… гм!… из одной книги, что Цезарь ненавидел женщин, и с ним делались корчи, и он страшно скрипел зубами, если приходилось встречаться с женщиной». И, подражая великим полководцам, Женька боялся встречаться с дамами. Когда попадались навстречу гимназистки, он задирал голову, подымал плечи и переходил на другую сторону мостовой – прямой как палка.
Это был мой закадычный друг, года на полтора постарше. Он уже пробовал говорить баском, вжимая и раздувая шею, старался шагать «полковником» и настойчиво мял резину, вырабатывая «мертвую хватку» в пальцах. Я гордился его железной силой и независимостью в семье. Жутко бывало слушать, как он говорил при матери:
– Из гимназии выгонят?… Плевать. Махну в матросы!
А когда мрачные мысли начинали его давить, он встряхивался ретиво и вскрикивал из «Капитана Гаттераса»:
– «А компас показывал на Север!»
Чтобы закалить тело и приучиться к жизни, полной опасностей и лишений, он пил из загнивших луж, сплевывая по-боцмански, ел на прогулках какие-то «питательные корни» и глотал пескарей живьем.
– Мало ли что случится! – говорил он мечтательно. – Дослужусь до полковника, попаду в военную экспедицию, в Корею куда-нибудь… придется всего хлебнуть! Были великие путешественники, и еще будут!… Надо готовиться.
Правда, он стал полковником. Был и в Корее, и на горах Карпатских, и пил из загнивших луж. И много хлебнул – всего…
Он уже «разговаривал» с учителями. Латинисту переводил с усмешкой – «Цезарь выстроил на холме три когорты… ветеринаров!» Историку начинал про обесчещенную Лукрецию с развалочкой: «Жила-была одна молодая жена одного мужа, по прозванию Лук-реция, соблазнившая своей красотой одного легкомысленного юношу…» А при попечителе рассказал, как «Пифия садилась на расселину, и из нее выходили одуряющие пары». Хрипевшего от удушья старичка-попечителя увели под руки, а не моргнувшего глазом Женьку посадили на воскресенье.
Словом, он был для меня авторитетом.
Прошлой осенью мы заключили с ним «союз крови». Мы сидели на нашей рябине и дружно читали «Дон-Кихота». Не помню, что нас растрогало. Было что-то в осеннем саду темневшем, в небе ли тихом, звездном, или в нашей душе притихшей: мы почувствовали любовь друг к другу, потребность ласки. Он обнял меня за шею, а я его.
– Тонька, – сказал он мне, – ты славный парень! У тебя дом, а у меня ни черта, но ты простяга. Потому и вожусь с тобой. И если когда-нибудь проживешься в пух и прах, рассчитывай на меня смело, я разделю с тобой последнюю корку хлеба! А если случится мне напасть на золотые россыпи, когда предприму экспедицию… твоя половина обеспечена. Вот моя рука, я не бросаю слова на ветер!
И на его глазах показались слезы. Навернулись и на моих. Я сказал:
– Для меня богатство на последнем плане, как для Дон-Кихота. Мой дом и кров всегда для тебя. Располагай мною, как… Вот, на нас смотрят звезды, и я…
У меня захватило дух. Вздохнул и Женька и сделал – гм!… В волнении он всегда так делал, так всегда делают полковники.