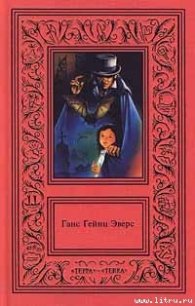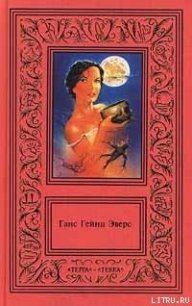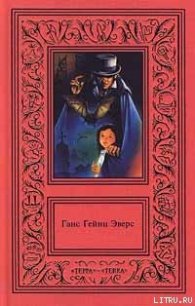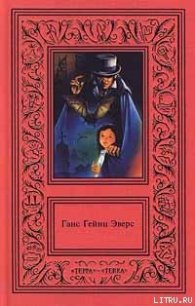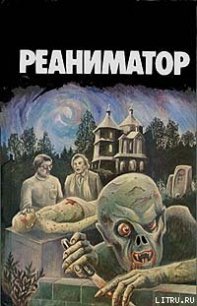Эдгар Аллан По (Фантастическая литература: исследования и материалы, т. III) - Эверс Ганс (хороший книги онлайн бесплатно TXT) 📗
— Мой взгляд падает на стену зала. Арабески и куфические надписи, выполненные в стиле мудехар [18], сплетаются и растворяются друг в друге, и глаз никогда не насыщается их фантастической гармонией. И это арабское чудо создано из гипса, жалкого гипса — как низменно, смехотворно, абсурдно! Но, и будучи сотворенным из низменного гипса, это совершенное произведение искусства не утрачивает своего величия. Обыкновенная материя пронизана духом, дышит им — искусство торжествует над природой, и искусство это столь грандиозно, что и сознание смехотворности материи, из которой оно сотворено, не в силах его умалить!
По более не нуждался в вековой мантии лжи. Увидев и осознав, что она истрепалась до дыр, он смело отбросил ее в сторону. В нескольких словах, определяющих в «Эврике» интуицию как «убеждение, получившееся из дедукций или индукций, поступательный ход которых был столь теневым, что ускользнул от нашего сознания, увернулся от рассудка или посмеялся над нашей способностью выражения» [19] — более ясное понимание путей художественного творчества, чем у любого из его современников. Таким образом, поэт-философ, выступая против так называемой «интуиции» философии — в частности, анализируя и оспаривая мнения Аристотеля и Бэкона — в то же время определяет ее значение в узком, нетеологическом, вполне современном смысле. Величие этого первого человека, наделенного современным духом, состоит в том, что он, романтик, мечтатель, был тем не менее поклонником разума и никогда не терял почву под ногами!
Эдгар Аллан По, впервые открыто признавший важность техники мышления, на десятилетия опередил Золя с его «Гений — это усердие». И тот же Эдгар Аллан По писал в предисловии к «Эврике»: «Тем немногим, кто любит меня и кого я люблю — тем, кто чувствует скорее, чем тем, кто думает, — сновидцам и тем, кто верит в сны как в единую действительность — я отдаю эту Книгу Истин не как Истину Глаголящую, а во имя Красоты, что пребывает в ее Истине, — делающей ее истиной. Им я предлагаю творение это как Создание Искусства только, скажем, как Повесть или, если мое притязание не слишком высоко, как Поэму. Что я здесь возвещаю, есть истинно: — потому оно не может умереть: — или если какими-либо средствами будет затоптано ныне так, что умрет, оно снова восстанет для Жизни Бесконечной».
Так По, совершенно независимо от Т. Готье, устанавливает свой принцип «искусства для искусства». Но он идет дальше Готье, видевшего красоту лишь глазом художника; и глубже Готье, для которого проявлением красоты служила лишь внешняя форма. Для По только красота творит истину — истину, чье существование он не признает вне красоты: это величайшее требование, когда-либо предъявленное к искусству. И поскольку это требование может быть выполнено лишь в мечтаниях, сны становятся для По единственной действительностью, тогда как жизненной яви он отказывает в какой-либо реальности. Здесь По — романтик — снова выступает первопроходцем: он первым открывает то, что мы называем «современным сознанием». Предвосхитив технический принцип творчества Золя, установив парнасский художественный принцип независимо от парнасцев, он на полвека опережает современников и выдвигает настолько ультрасовременное требование, что и сегодня лишь немногие передовые умы способны понять все его радикальное величие.
Оплодотворение литературы культурных народов духом По достигнет полного развития лишь в этом веке; в прошлом было лишь осуждение, смешки и хмыканье — что, разумеется, принесло состояние более удачливым подражателям, Жюлю Верну и Конан Дойлю. Понятно также, что бедствовавший По сочинял подобные вещи лишь ради хлеба насущного: морские и лунные путешествия Гордона Пима и Ганса Пфалля, как и некоторые криминальные новеллы («Убийства на улице Морг», «Похищенное письмо», «Черный кот») были созданы исключительно ради горячего обеда. По хорошо знал, что значит быть голодным! И он писал эти рассказы, занимался переводами и литературными обзорами. Конечно, в сравнении с любым его рассказом, даже самым слабым, бледнеют все приключения знаменитого Шерлока Холмса. — Почему же широкая публика, в особенности англоязычная, с восторгом поглощает нелепые детективные истории Дойля и откладывает в сторону По? Совершенно непостижимо! Персонажи По реальны, словно герои Достоевского; его композиция настолько безупречна, он так затягивает воображение читателей в свои сети, что и самый храбрый из них не может избавиться от чувства ужаса, мучительного, убийственного ужаса, напоминающего безжалостный ночной кошмар. У необычайно популярных подражателей По, напротив, ужас оборачивается не чем иным, как приятной щекоткой, которая ни на мгновение не вызывает у читателя сомнений ни в декорациях, ни в благополучном исходе. Читатель постоянно помнит: все это лишь глупейшая ерунда; он стоит выше рассказчика — это-то ему и нужно! Но По… По хватает читателя за волосы, увлекает в бездны и швыряет в глубины ада: простак утрачивает зрение и слух и не понимает, где находится. Вот почему добрый бюргер, любящий спокойно спать по ночам, предпочитает сценического героя с Бейкер-стрит; что же до жутких кошмаров По — увольте! Мы видим: даже тогда, когда По хотел быть буржуазным, когда он хотел писать для широкой массы — он ставил перед собой слишком высокие цели; он обращался к пониманию буржуа и считал, что разговаривает с равными! Он нес свой мозг на рынок и бегал от издателя к издателю — а им нужна была солома!
Но придет время, когда люди созреют для восприятия дарования поэта. Нам уже ясно открывается путь, ведущий от Жана Поля и Э. Т. А. Гофмана к Бодлеру и Эдгару Аллану По, единственный путь, по которому может пойти искусство культуры, мы уже видим некоторые усилия в этом направлении…
Это искусство больше не будет заковано в тесное национальное платье. Оно будет подобно творениям По, впервые осознавшего, что он пишет не для «своего народа», а лишь для тонкой культурной прослойки, будь она германской или японской, латинской или еврейской. Ни один художник никогда не творил для «своего народа», хотя почти все стремились к этому и верили в свой успех. Широким массам в Испании совершенно неизвестны Веласкес и Сервантес, и точно так же английские рабочие ничего не знают о Шекспире и Байроне, французы — о Рабле и Мольере, голландцы — о Рембрандте и Рубенсе. Немецкий народ не имеет никакого представления о Гете и Шиллере, не знает даже имен Гейне и Бюргера. Ответы на вопросы, представленные солдатам ряда полков («Кем был Бисмарк? Кто такой Гете?») должны наконец открыть глаза и самым доверчивым из слепых. Целые миры отделяют культурного человека в Германии от его соотечественников, которых он ежедневно видит на улице; но ничто, кроме пространства воды, не отделяет его от культурного человека в Америке.
Гейне почувствовал это — и бросил это франкфуртцам в лицо, Эдгар Аллан По выразил то же с еще большей ясностью. Но большинство художников, а также ученых и образованных представителей всех народов так слабо это понимали, что до сих пор неправильно истолковывают горациево прекрасное «Odi profanum» [20]. Художник, желающий творить для «своего народа», стремится к невозможному и часто пренебрегает достижимой, но более высокой задачей: творить для всего мира. Над немцем, над британцем и французом стоит высшая нация: нация культуры — и лишь для нее достойно творить художнику. На этой почве По чувствовал себя как дома, подобно Гете, хотя и в ином, столь же осознанном, но уже не столь современном смысле.
Я медленно прохожу по парку Альгамбры, под старыми вязами, посаженными Веллингтоном. Со всех сторон плещутся фонтаны; их голоса смешиваются со сладким пением сотен соловьев. Я неторопливо иду меж высоких башен в роскошной долине Альгамбры.