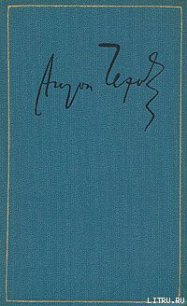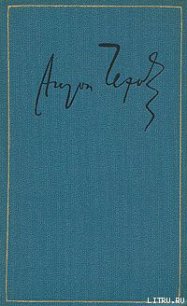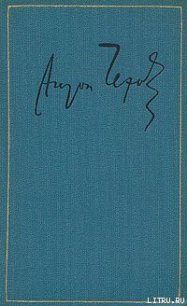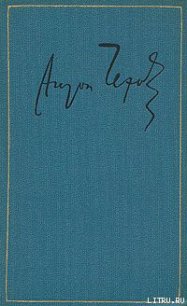Рассказы. Юморески. «Драма на охоте». 1884—1885 - Чехов Антон Павлович (книги онлайн читать бесплатно TXT) 📗
— Я сейчас! — крикнул он.
— Ударился в бегство… — засмеялся я, сгорая со стыда и боясь взглянуть на жену. — Не правда ли, Соня, смешно? Оригинал страшный… А погляди, какая мебель! Стол о трех ножках, параличное фортепиано, часы с кукушкой… Можно подумать, что здесь не люди живут, а мамонты…
— Это что нарисовано? — спросила жена, рассматривая картины, висевшие вперемежку с фотографическими карточками.
— Это старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит… [104] А это портрет викария, когда он еще был инспектором семинарии… Видишь, «Анну» имеет… Личность почтенная… Я… (я высморкался).
Но ничего мне не было так совестно, как запаха… Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что в общем давало пронзительную кислятину… Вошел мой кузен Митя, маленький гимназистик с большими оттопыренными ушами, и шаркнул ножкой… Подобрав апельсинные корки, он взял с дивана подушку, смахнул рукавом пыль с фортепиано и вышел… Очевидно, его прислали «прибрать»…
— А вот и я! — заговорил наконец дядя, входя и застегивая жилетку. — А вот и я! Очень рад… весьма! Садитесь, пожалуйста! Только не садитесь на диван: задняя ножка сломана. Садись, Сеня!
Мы сели… Наступило молчание, во время которого Пупкин поглаживал себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился.
— Мда… — начал дядя, закуривая сигару (при гостях он всегда курит сигары). — Женился ты, стало быть… Так-с… С одной стороны, это хорошо… Милое существо около, любовь, романсы; с другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волка взвоешь! Одному сапоги, другому штанишки, за третьего в гимназию платить надо… и не приведи бог! У меня, слава богу, жена половину мертвых рожала.
— Как ваше здоровье? — спросил я, желая переменить разговор.
— Плохо, брат! Намедни весь день провалялся… Грудь ломит, озноб, жар… Жена говорит: прими хинины и не раздражайся… А как тут не раздражаться? С утра приказал почистить снег у крыльца, и хоть бы тебе кто! Ни одна шельма ни с места… Не могу же я сам чистить! Я человек болезненный, слабый… Во мне скрытый геморрой ходит.
Я сконфузился и начал громко сморкаться.
— Или, может быть, у меня это от бани… — продолжал дядя, задумчиво глядя на окно. — Может быть! Был я, знаешь, в четверг в бане… часа три парился. А от пару геморрой еще пуще разыгрывается… Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо… Это, сударыня, неправильно… Я сызмальства привык, потому — у меня отец в Киеве на Крещатике баню держал… Бывало, целый день паришься… Благо не платить…
Мне стало невыносимо совестно. Я поднялся и, заикаясь, начал прощаться.
— Куда же это так? — удивился дядя, хватая меня за рукав. — Сейчас тетка выйдет! Закусим, чем бог послал, наливочки выпьем!.. Солонинка есть, Митя за колбасой побежал… Экие вы, право, церемонные! Загордился, Сеня! Нехорошо! Венчальное платье не у Глаши заказал! Моя дочь, сударыня, белошвейную держит… Шила вам, я знаю, мадам Степанид, да нешто Степанидка с нами сравняется! Мы бы и дешевле взяли…
Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты… Я чувствовал, что я уничтожен, оплеван, и ждал каждое мгновение услышать презрительный смех институтки-жены…
«А какой мове-жанр ждет нас у Плевкова! — думал я, леденея от ужаса. — Хоть бы скорее отделаться, чёрт бы их взял совсем! И на мое несчастье — ни одного знакомого генерала! Есть один знакомый полковник в отставке, да и тот портерную держит! Ведь этакий я несчастный!» — Ты, Сонечка, — обратился я к жене плачущим голосом, — извини, что я возил тебя сейчас в тот хлев… Думал дать тебе случай посмеяться, понаблюдать типы… Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко… Извиняюсь…
Я робко взглянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мнительности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел румянец не то стыда, не то гнева, руки судорожно щипали бахрому у каретного окна.. Меня бросило в жар и передернуло…
«Ну, начинается мой срам!» — подумал я, чувствуя, как наливаются свинцом мои руки и ноги. — Но не виноват же я, Соня! — вырвался у меня вопль. — Как, право, глупо с твоей стороны! Свиньи они, моветоны, но ведь не я же произвел их в свои родичи!
— Если тебе не нравятся твои простяки, — всхлипнула Соня, глядя на меня умоляющими глазами, — то мои и подавно не понравятся… Мне совестно, и я никак не решусь тебе высказать… Голубчик, миленький… Сейчас баронесса Шепплинг начнет тебе рассказывать, что мама служила у нее в экономках и что мы с мамой неблагодарные, не благодарим ее за прошлые благодеяния теперь, когда она впала в бедность… Но ты не верь ей, пожалуйста! Эта нахалка любит врать… Клянусь тебе, что к каждому празднику мы посылаем ей голову сахару и фунт чаю!
— Да ты шутишь, Соня! — удивился я, чувствуя, как свинец оставляет мои члены и как по всему телу разливается живительная легкость. — Баронессе голову сахару и фунт чаю!.. Ах!
— А когда увидишь генеральшу Жеребчикову, то не смейся над ней, голубчик! Она такая несчастная! Если она постоянно плачет и заговаривается, то это оттого, что ее обобрал граф Дерзай-Чертовщинов. Она будет жаловаться на свою судьбу и попросит у тебя взаймы; но ты… тово… не давай… Хорошо бы, если б она на себя потратила, а то всё равно графу отдаст!
— Мамочка… ангел! — принялся я от восторга обнимать жену. — Зюмбумбунчик мой! Да ведь это сюрприз! Скажи ты мне, что твоя баронесса Шепплинг (через два «п») нагишом по улице ходит, то ты бы меня еще больше разодолжила! Ручку!
И мне вдруг стало жаль, что я отказался у дяди от солонины, не побренчал на его параличном фортепиано, не выпил наливочки… Но тут мне вспомнилось, что у Плевкова подают хороший коньяк и поросенка с хреном.
— Валяй к Плевкову! — крикнул я во всё горло вознице.
Тост прозаиков
— Проза остается прозой даже тогда, когда кружится голова и вальсируют чувства. Как бы ни накалили вы кремень, а из него не сделать вам кружев; каким бы веселящим нектаром вы ни напоили прозаика, а из него не выжать вам легкого, веселящего экспромта! Не моя вина, если требуемый от меня тост заставит вас нахмуриться и если мой веселый сосед потянет меня за рукав и призовет к порядку. Я смущен, коллеги, и невесело мне! Если бы не было обычая на юбилейных обедах смеяться, то я пригласил бы вас плакать…
Если человек прожил двадцать лет, то он еще так молод, что ему запрещают жениться; если же журнал перевалил через двадцать, то его ставят в пример долговечности. Это раз… Во-вторых, журнал прожил двадцать лет, а среди нашей обедающей братии нет ни одного, который имел бы право назвать себя ветераном «Будильника», нет, кажется, ни одного, который мог бы сказать, что он работал в нашем журнале более десяти лет. Я лично числюсь в штате прозаиков пять-шесть лет, не больше, а между тем три четверти из вас — мои младшие коллеги, и все вы величаете меня старым сотрудником. Хорош старик, у которого нет еще порядочных усов и из которого бьет таким ключом самая настоящая молодость! Журналы недолговечны, пишущие же еще недолговечнее… Прожил «Будильник» только двадцать лет, а попал уже в старики и пережил чуть ли не двадцать поколений сотрудников. Словно индейские племена исчезали одно за другим эти поколения… Родится и, не расцвев, увядает… Смешно: по «Будильнику» мы имеем предков!
Где же они? Одни умерли… Каждый год, и почему-то непременно осенью, нам приходится хоронить кого-либо из коллег… Сбежишь не только в частные поверенные или нотариусы, но и подальше: в кондуктора, в почтальоны, в литографы! Я видел третьих, которые просто сознавались мне, что они отупели… И все эти смерти, дезертирства, отупения и прочие метаморфозы происходят в удивительно короткий срок. Право, можно подумать, что судьба принимает толпу пишущих за коробку спичек! Не стану я объяснять этой недолговечности, но ею берусь объяснить многое. Объясняю я ею такое печальное явление, как отсутствие окрепших, сформировавшихся и определившихся талантов. Объясняю отсутствие школ и руководящих традиций. В ней же вижу причину мрачного взгляда, установившегося в некоторых на журнальные судьбы. Но что наиболее всего смущает меня, так это то, что та же самая недолговечность является симптомом жизни тяжелой, нездоровой.
104
…старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит… — Серафим (1760—1833), монах Саровской пустыни. На широко распространенных в то время народных картинках Серафим обычно изображался с медведем.