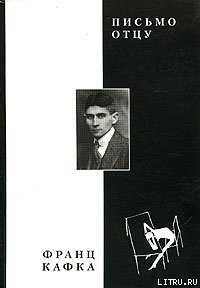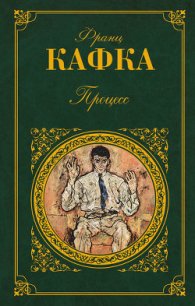Письма к Милене - Кафка Франц (книги без регистрации бесплатно полностью .txt) 📗
Права ты и в том, что ставишь мое нынешнее решение в один ряд с прежними историями, – я ведь остаюсь все тем же и переживаю все то же. Разница лишь в том, что у меня теперь уже есть опыт и я со своим воплем не дожидаюсь, пока приставят тиски, чтоб вырвать у меня признание, а кричу уже тогда, когда их только поднесут, так обострилась моя совесть – впрочем, не так уж сильно и обострилась, далеко не так сильно. Но вот еще что: когда спрашиваешь ты, тебе можно сказать правду, как никому другому, – сказать ее ради себя и ради тебя; да нет – от тебя-то лишь и возможно услышать свою правду.
Но когда ты с горечью говоришь о том, что я так просил тебя не покидать меня, ты не права. В этом я и прежде был таким же, как сейчас. Я жил твоим взглядом (и тут нет никакого особенного обожествления твоей персоны – такой взгляд каждого делает богом), у меня не было реальной почвы под ногами; я так этого страшился, хотя и безотчетно, – я совершенно не представлял себе, как высоко я парю над своей землей. Это было плохо – и для меня, и для тебя. Одного слова истины, неумолимой истины было достаточно, чтобы уже стянуть меня на вершок с моих высот, а потом еще слово – и еще вершок, и наконец исчезли все опоры, и я стремглав падал вниз, хоть мне все и казалось, что падаю слишком медленно. Я намеренно не привожу в пример никаких таких «слов истины», это только сбивает с толку и никогда не будет верным до конца.
Прошу тебя, Милена, придумай какую-нибудь другую возможность, чтоб я мог тебе писать. Лживые открытки посылать глупо; какие я должен тебе послать книжки, я тоже уже не помню; мысль о том, что ты однажды даром проходишь на почту, невыносима; придумай какую-нибудь другую возможность, прошу тебя.
Понедельник, вечер
Итак, в среду ты пойдешь на почту, а письма там не будет – хотя нет, будет, субботнее. В бюро я писать не мог, потому что хотел работать, а работать не мог, потому что думал о нас. К вечеру не мог подняться с постели, не потому, что слишком устал, а потому, что был слишком «тяжел», все время это слово, оно единственное мне под стать, ты-то понимаешь? Это как «тяжесть» корабля, который потерял управление и говорит волнам: «Для себя я слишком тяжел, для вас – слишком легок». Но и это не вполне точно, сравнениями этого не выразишь.
Но, в сущности, я не писал потому, что смутно ощущаю: нужно написать тебе так много очень-очень важного, что никакое свободное время не будет достаточно свободным, чтобы собрать для этого все силы. И так оно и есть.
Мне и о настоящем-то времени сказать нечего, а о будущем и того меньше! Я вправду только-только поднялся с одра болезни («одр болезни» – на взгляд извне), еще держусь за него и больше всего хочу обратно. Хотя и понимаю, что он означает, этот одр.
Ты, Милена, справедливо писала о тех людях: «Nemate sily milovat», – хотя, когда писала, ты не считала это справедливым. Может быть, сила их любви состоит лишь в том, что они могут быть любимы. Но и здесь для таких людей есть занижающий оттенок. Если один из них говорит своей возлюбленной: «Я верю, что ты меня любишь», то это нечто совсем иное и куда более мелкое, чем если б он сказал: «Я любим тобою». Впрочем, это ведь не любящие, это грамматисты.
«Несовершенство вдвоем» – в твоем письме все-таки недоразумение. Я же всего-навсего имел в виду, что живу в своей грязи, и это мое дело. Но втягивать туда еще и тебя – это совсем другое, и не просто насилие над тобой, это бы еще мелочь, не думаю, чтобы насилие над другим, коль скоро оно касается только этого другого, помешало мне спать. Нет, дело не в этом. Весь ужас в том, что, глядя на тебя, я гораздо отчетливее осознаю собственную грязь, а главное – по этой причине спастись становится намного труднее, нет, намного невозможнее (это невозможно в любом случае, но тут невозможность возрастает стократ). И от страха на лбу выступает испарина; о какой-либо твоей вине, Милена, тут и речи нет.
Я совершил ошибку и очень сожалею, что в последнем письме приводил сравнения с прошлыми обстоятельствами. Давай вместе все это вычеркнем.
Значит, ты вправду не болеешь?
Конечно, Милена, живет в Праге такой человек, он твое достояние, никто его у тебя не оспаривает, разве что ночь, которая борется за него, но она борется за все. Но что это за достояние! Я его не преуменьшаю, что-то оно из себя представляет, оно даже так огромно, что способно затмить и луну – наверху, в твоей комнате. И ты не боишься такой тьмы? Тьма без теплоты тьмы!
Чтобы ты увидела хоть что-то из моих «занятий», прилагаю рисунок. Это четыре сваи, сквозь две средние пропускают штанги, к которым привязывают руки «преступника»; сквозь две другие пропускают штанги для ног. Когда человек так привязан, штанги медленно выдвигают все дальше и дальше, пока человек не разрывается посередине. К колонне прислонился изобретатель, стоит и пыжится, скрестив руки и ноги, будто все это – оригинальное изобретение, хотя на самом деле он просто подсмотрел это у мясника, который рас-пяливает возле своей лавки освежеванную свинью.
Я спрашиваю, не боишься ли ты, потому что человека, о котором ты пишешь, вообще не существует: ни того, что был в Вене, ни того, что был в Гмюнде; впрочем, этот последний, пожалуй, как раз существует, и да будет он проклят. Это важно знать потому, что, сойдись мы снова, опять возникнет тот, что был в Вене, а то еще и тот, что был в Гмюнде, – сама невинность, будто ничего и не произошло, – в то время как снизу, из глубин, будет источать угрозу тот, настоящий, неведомый никому, неведомый самому себе, еще менее существующий, чем другие, но в выражении могущества своего реальней всего реального (вот отчего только он не поднимется сам наконец, отчего не покажется?), и он снова разобьет все вдребезги.
Да, Мицци К. заходила сюда, все было хорошо. Но я, если это мало-мальски возможно, больше не стану ничего писать про других людей, ведь их-то вмешательство в наши письма и виновато во всем. Но писать о них я не буду не поэтому (сами-то они ни в чем не виноваты, они просто открыли дорогу правде и тому, что идет за нею), я не хочу таким образом их наказывать, если вообще можно считать это для них наказанием, мне просто кажется, что им здесь уже не место. Здесь тьма, темная квартира, где ориентируются только аборигены, да и те с трудом.
Знал ли я, что это пройдет? Я знал, что это не пройдет.
Еще ребенком, стоило мне сделать что-нибудь очень дурное – ничего дурного (или уж слишком дурного) в людском смысле, но что-то очень дурное в моем собственном, приватном смысле (впрочем, если это и не означало ничего дурного в людском смысле, то не в силу моей какой-то особенной заслуги, а в силу того, что мир был слеп или просто спал), – я очень удивлялся тому, что все идет по-прежнему, своим чередом, что взрослые, хоть и несколько помрачневшие, но в остальном нисколько не переменившиеся, ходят как ни в чем не бывало, и их губы по-прежнему сжаты (я всегда, с самого раннего детства, глядя на эти губы снизу вверх, восхищался тем, как они спокойны и невозмутимо-естественно сжаты). Из всего этого, понаблюдав за ними некоторое время, я заключал, что я, похоже, и не могу сделать ничего дурного, ни в каком смысле, что мои страхи – это всего лишь ребяческое заблуждение и что я, стало быть, могу начинать все снова – на том самом месте, где я с перепугу прекратил. Со временем такое восприятие мира стало постепенно меняться. Во-первых, я пришел к убеждению, что другие все прекрасно замечают и даже достаточно ясно выражают свое отношение, – просто я сам до сих пор был недостаточно зорок; эту зоркость я весьма скоро приобрел. Во-вторых, эта невозмутимость других людей – если она и в самом деле существовала – хоть и продолжала удивлять меня, но уже не воспринималась как доказательство в мою пользу.