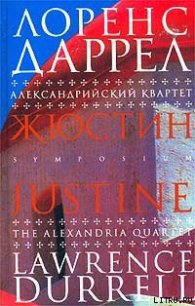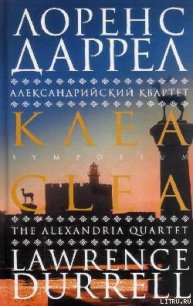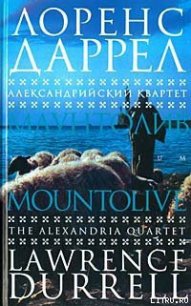Бальтазар - Даррелл Лоренс (бесплатные онлайн книги читаем полные txt) 📗
«Они мне так и не поверили, — простонал Магзуб. — А я ведь смотрел, я видел. Два раза им говорил. Я не трогал девочку». И словно дремавший огонь вдруг вспыхнул в нем, в глазах и в голосе, с прежней силой, с прежней яростью; он крикнул: «И тебе показать тоже? Ты тоже хочешь видеть?» — но снова сник. «Да!» — крикнул в ответ Наруз, которого снова затрясло в ожидании предстоящей схватки, и его тело снова зажило отдельной жизнью. Словно электрический ток побежал по ногам, заставив их мелко дрожать. «Покажи!»
Магзуб задышал глубоко и мощно и после каждого вздоха ронял голову подбородком на грудь. Глаза его были закрыты. Так локомотив загружается углем, вид сверху. Потом он открыл глаза и произнес: «Смотри в землю».
Встав на колени на сухую спекшуюся глину, он очертил указательным пальцем в пыли круг и разгладил пыль ладонью. «Здесь свет, — медленно поглаживая песок, прошептал он сосредоточенно; и следом: — Смотри глазами, прямо земле в грудь, — указав пальцем в круге конкретную точку. — Здесь».
Наруз неуклюже опустился на колени и послушно уставился в землю. «Я ничего не вижу», — сказал он тихо чуть погодя. Магзуб медленно выдохнул, то придерживая воздух, то снова выпуская его маленькими порциями меж сжатых губ. «Думай, что ты видишь сквозь землю», — сказал он настойчиво. Наруз дал глазам волю пробить заскорузлую корку глины под слоем пыли и зрению своему, внутреннему оку, влиться, как в воронку, в точку под пальцем колдуна. Было очень тихо. «Да, я понял», — сказал он наконец. И вдруг совершенно ясно он увидел часть берега большого озера с хаотической сетью каналов и старый дом из осыпающегося кирпича, где жили когда-то Арноти и Жюстин, — где, собственно, начата была работа над «M?urs» и где ребенок… «Я вижу ее», — сказал он. «Ага, — сказал Магзуб. — Смотри внимательно».
Нарузу казалось, что легкая дымка, поднимавшаяся там, у озера, от воды к небу, и его захватила, подняла, лишила веса. «Играет у реки», — сказал он. «Упала»; он услышал — его водитель задышал глубже. «Упала», — отозвался Магзуб. Наруз заговорил снова: «Рядом никого. Она одна. На ней синее платье и брошь вроде бабочки». Последовало долгое молчание; затем Магзуб кашлянул тихо и сказал глухим, почти утробным голосом: «Ты видел — то самое место. Велик Господь и воля его надо мной». И, подхватив щепоть пыли, он втер ее в кожу лба — видение исчезло.
Наруз обнял Магзуба и поцеловал, потрясенный его могуществом, ни на минуту не усомнившись в достоверности информации, — он все видел своими глазами. Он встал на ноги и встряхнулся, как пес. Они попрощались шепотом и расстались. Наруз пошел обратно, в сторону ярмарки, а колдун так и остался сидеть на земле, снова впав в прострацию. На ходу у Наруза по телу то и дело пробегали волны мелкой дрожи и словно булавочки кололись под кожей — или как если бы через бедра его и чресла пропустили ток. Вдруг он понял, что ему только что было очень страшно. Он зевал, и передергивал плечами, и хлопал себя ладонями по бедрам — словно пытаясь согреться, разогнать по жилам кровь.
Чтобы выйти к дому плотника, где стояла во дворе его лошадь, ему пришлось пересечь восточный угол мейдана; праздник еще не кончился, несмотря на поздний час, толпа у качелей не убывала, и огни сияли по-прежнему. То был час шлюх, и они уже вступили в свои права, черные, бронзовые, лимонно-желтые женщины, неисправимые охотницы до пропахшей деньгами мужской плоти: плоти любого цвета, слоновая ли кость, золото или черное дерево. Суданки с лилово-розовыми деснами — язык отливает синим, как у чау-чау. Восковые египтянки. Златовласые черкешенки с голубыми глазами. Тускло-черные с просинью негритянки — резкие, острые на язык, как дым смолистого дерева. Любое имя, любой синоним плоти: старая плоть, створоженная мякоть поверх костей и неутолимая жажда плоти юной, мальчики и женщины на нетвердых ногах, во власти желаний бешеных, невыразимых; их можно бы вылепить в скульптуре, но не высказать, не объяснить, вот разве что мим… — ибо желания эти рождены были в самых древних дебрях душ и принадлежали не им, не этим людям, но далеким их предкам, слепо ищущим сквозь них пробиться. Страсть рождается еще в яйце, и нора ее — глубоко под радужной пленкой души.
Пустая, жаркая египетская ночь горела здесь, в Александрии, ярко, как факел, прожигая босые подошвы черных ног насквозь — до заскорузлых сердец, до умов закосневших. В ее безумии и красоте Наруз плыл, как новорожденный в люльке, как непотопляемая лилия на искристой поверхности реки, длинным стеблем уходящая в сумеречные глубины омута, туда, где ждали его, не шевелясь, черные архетипы ярких образов — тех, что толпились вокруг.
Тогда-то он и стал свидетелем короткой сценки, словно специально для него разыгранной, — смысла ее он не понял, да и не мог понять, ибо основного ее участника никогда дотоле не встречал и уже не встретит: вот разве что на этих страницах — Скоби.
Где-то возле будок для обрезания поднялся шум. Бутафорские стены из холста и картона со всей их жутковатой иконографией сотряслись до основания, крик, злые голоса, грохот подбитых гвоздями башмаков по хлипким дощатым настилам; и вдруг, прорвавшись сквозь картон, держа в руках завернутого в одеяло ребенка, выскочил на белый фонарный свет сухонький старичок, одетый в мундир офицера египетской полиции, на шатких, подламывающихся на бегу ножках. За ним следом из будки выплеснулась волна арабов, рыкающих и подвывающих на бегу, как свора псов, злых, но трусоватых. Всей этой отчаянной погони Наруз был почти участник, ибо его только что не сбили с ног. Старичок в мундире кричал голосом тонким и немощным, но в общем шуме слов было не слыхать — он метнулся через дорогу к видавшему виды кэбу и ловко, как обезьянка, шмыгнул внутрь. Экипаж тут же тронулся неровной рысью и благословлен был в добрый путь градом камней и проклятий. Все.
Сценка показалась Нарузу любопытной, и он досмотрел до конца, и вдруг откуда-то сбоку, из темного прохода, он услышал голос — голос, который по сладости своей и глубине мог принадлежать одному лишь в целом свете человеку: Клеа. Его словно прострелило — он резко, на всхлипе, вдохнул и сжал ладони имеете в детском жесте униженной мольбы. Голос был голос любимой женщины, но что за уродливое тело произвело его на свет из полутьмы! — заплывшая жиром туша немолодой арабской шлюхи, сидевшей с неприкрытым лицом перед входом в свой бумажный домик, на трехногом табурете. Она говорила и жевала одновременно — сезамовую лепешку, с видом огромной гусеницы, вгрызающейся в лист латука, — но говорила они голосом Клеа, до звука, до последней нотки!
Наруз тут же подошел к ней и сказал тихо и вкрадчиво: «О мать моя, поговори со мной» — и снова услышал невыразимо блаженную музыку голоса: медоточивая, грубая лесть, с единственной целью заманить его в камеру пыток (ни дать ни взять, Пестезухос, крокодилья богиня).
Ослепший, глухой ко всему на свете, кроме мягких каденций любимого голоса, он пошел за ней следом, как морфинист, и, стоя с закрытыми глазами в темной комнате, положил ладони на две огромные желеобразные груди — чтобы вобрать всю до капли музыку медленно падающих слов любви единственным долгим, обжигающим глотком, до капли. Потом он отыскал ее рот и впился в него лихорадочно, как если бы сам образ Клеа входил в него с ее дыханием — и с тошнотворным запахом сезама. Он дрожал от возбуждения — и чувства опасности, как святотатец, пришедший осквернить храм неким немыслимым кощунством, образ которого вспыхнул когда-то в его мозгу молнией, во всей своей невозможной и страшной красоте. (Афродита допускает в любви любые сопряжения ума и чувства.)
Он распустил кушак и медленно уложил свою большую куклу на волглую постель, добывая из ее жирного тела те желанные, воображаемые по большей части ответы, что, наверное, встретили бы его руки у другого — любимого — тела. «Говори, мать моя, — шептал он хрипло, — говори, пока я стану делать это. Говори». И он выдирал, выдавливал из огромной этой белой гусеницы редкий и чудесный образ, редкую, быть может, как королевский бражник, красоту Клеа! Но до чего же упоительно и жутко — возлечь наконец, выжатым, как старый тюбик с краской, меж бренных останков умерших без завещания желаний: он, он сам, пугливое глубинное «я», выброшенное волною страсти на сушу, к одинокой полумечте-полусну, преходящей, как детство, и такой же томительной: Клеа!