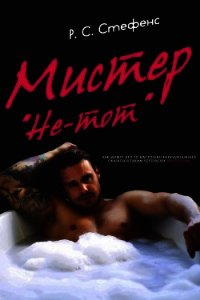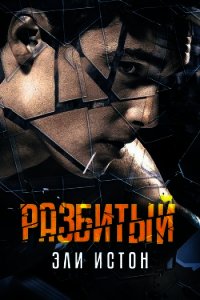Мистер Вертиго - Остер Пол Бенджамин (читаем книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Один раз я, кажется, сделал все не так тихо, как обычно. Это было ночью накануне выступления, и я уже изготовился пустить струю, когда мастер вдруг неожиданно проснулся. Меня едва не хватил удар. Услышав в темноте его голос, я будто получил канделябром по кумполу.
— Что случилось, Уолт?
Я разжал пальцы так, будто член мой мгновенно оброс колючками.
— Случилось? — сказал я. — В каком смысле «случилось»?
— Я говорю про звуки. Что за скрип, сопение и пыхтение? Они от твоей постели.
— Чешется все ужасно. Ужасно, мастер, а когда скребешь потихоньку, то не помогает.
— Ясное дело, чешется. Начинает в паху, а кончается в тряпочку. Оставь это, малыш. Тебе пора спать. Усталый артист — паршивый артист.
— Никакой я не усталый. Я жду утра не дождусь.
— Так только кажется. Онанизм отнимает силы, и скоро ты по утрам будешь чувствовать себя разбитым. Нет нужды рассказывать тебе, какая ценность эта твоя часть. Однако когда ей придают слишком много значения, она становится не менее опасна, чем динамитная шашка. Не трать бинду понапрасну, Уолт. Пользуйся ею только тогда, когда это действительно необходимо.
— Чего не тратить?
— Бинду. Так индусы называют энергию жизни.
— Фонтан, что ли?
— Вот именно, фонтан. Называй как хочешь. У нее больше ста названий, но все означают одно и то же.
— Мне тоже нравится «бинду». Классное словечко.
— Не обкрадывай себя, малыш, береги силы. Они тебе нужны все, до последней капли, — впереди у нас очень важные дни… впрочем, и ночи тоже.
Все это была чепуха. Усталый не усталый, сохранив свою «бинду» или выработав ее за ночь еще с ведро, утром я был как огурец. И мы сделали их в этом Вустере. А потом в Спрингфилде. А потом в Брайдпорте. И даже сбой, который случился в Нью-Хейвене, пошел нам только на пользу, потому что после него заткнулись последние скептики. К тому времени, как мы попали в Нью-Хейвен, о моих кувырканиях в воздухе возникло столько разговоров, что народ менее доверчивый заподозрил обман, и, по-моему, вполне естественно. Эти люди верили в твердый порядок мироустройства и считали, будто для меня в нем нет места. То, что я делал, противоречило законам природы. Противоречило науке, здравому смыслу, логике, опровергало сотни авторитетных теорий, и, конечно, им, всем этим профессорам и докторам, проще было обозвать меня мошенником, чем пересматривать свои талмуды. Куда бы мы ни приехали, везде начиналось одно и то же: газетные дискуссии, дебаты, обвинения и заступничество, перечисление всех мыслимых и немыслимых про и контра. Мастер в них участия не принимал — он стоял со счастливым видом в сторонке и смотрел, как мелькают циферки в окошках кассовых аппаратов, а если его начинали донимать журналисты, отвечал всегда одно и то же:
— Приходите и посмотрите сами.
Дискуссия, набирая силу, разворачивалась недели две или три и достигла пика, как раз когда мы оказались в Нью-Хейвене. Я помнил, что именно в этом городе находится Йель, тот самый университет, где собирался учиться Эзоп, и если бы не те подонки, он сейчас был бы среди студентов. На сердце у меня от этих мыслей лежал камень, и день накануне выступления я просидел в гостинице, все вспоминая то сумасшедшее время, когда мы жили все вместе, и думая, каким бы он стал великим ученым. Потому к шести часам вечера, когда пора было выходить, я пришел в полную негодность, и как потом ни старался, это было самое паршивое выступление за всю мою жизнь. Я не уложился во время; выполняя «тулуп», с трудом удерживал равновесие; про высоту и говорить не хочется. В конце концов, когда наступил момент идти над залом, произошло то, чего я всегда боялся: я не смог подняться достаточно высоко. Собрав волю в кулак, я набрал семь с половиной футов (и всё) и двинул вперед, обуреваемый дурными предчувствиями, поскольку прекрасно понимал: для того чтобы достать до меня, высокому человеку не понадобится даже подпрыгнуть. С этой секунды все пошло наперекосяк. Пройдя до середины зала, я предпринял последнюю отчаянную попытку. На чудо я не надеялся и хотел лишь хоть немного увеличить дистанцию между собой и зрителями — дюймов на шесть-семь, не больше. Я остановился, закрыл глаза, сосредоточился и перегруппировался, но не ничего не вышло. Через пару секунд я заметил, что не только не поднялся, а начинаю терять и эту высоту. Я опускался медленно, по дюйму, по два за ярд, как дырявый воздушный шар. К последним рядам я подошел уже на шести футах, став легкой добычей даже для коротышки. Тут-то и началась потеха. Какой-то лысый кретин в красном блейзере вдруг вскочил и взмахнул кулаком, метя мне в левый башмак. Я отдернул ногу, качнулся, будто кривой поплавок, но не успел восстановить равновесия, как с другой стороны вскочил второй. Второй оказался удачливей. Я упал, кувыркнувшись вперед головой, будто подстреленный воробей, и ударился лбом о металлическую спинку стула. Удар был настолько сильный, что я мгновенно вырубился.
Что случилось потом, я не видел, но знаю по рассказам: истерика распространилась по залу подобно пожару, и все девятьсот зрителей принялись кричать и вскакивать с мест. Потеря сознания и падение и стали лучшим аргументом для скептиков, и потом даже у них не осталось сомнений в честности моего искусства. На мне не нашлось ни невидимых веревок, ни баллонов с гелием под одеждой, ни бесшумного моторчика на ремне. Зрители наклонялись и ощупывали мое распростертое на полу тело, будто я был экспонат в медицинском музее. С меня содрали костюм, мне заглядывали в рот, раздвигали ягодицы и смотрели, что в заднице, но ничего там не обнаружили, кроме того, что положено от природы. Мастер, который, когда все это произошло, стоял за кулисами, быстро пришел в себя и кинулся ко мне, прокладывая дорогу кулаками. Но пока он протолкался до девятнадцатого ряда, вердикт был вынесен: Уолт Чудо-мальчик действительно умеет ходить по воздуху. Выступает он честно, что показывает, то и есть, и аминь.
Той же ночью случился первый приступ головной боли. Учитывая, как я жахнулся лбом о стул, это было неудивительно. Боль была страшная — в голове будто стучал чудовищный молот, будто рвалась шрапнель, — я почувствовал ее даже во сне и проснулся. Ванная в номере находилась в коридорчике между нашими комнатами, и туда-то я, наконец рискнув оторвать голову от подушки, и направился в надежде найти какой-нибудь аспирин. Мне было настолько худо, что я даже не заметил, что свет там уже горит. А если бы и заметил, вряд ли задумался бы, почему и зачем он включен в три часа ночи. Как оказалось, не одному мне понадобилось туда прогуляться в столь неподобающее время. Открыв дверь в сверкавшую белым кафелем ванную, я едва не споткнулся о мастера. В шелковой пижаме цвета лаванды, он стоял, переломившись от боли пополам, вцепившись в раковину обеими руками и хватая ртом воздух, будто внутри жгло огнем. Приступ продолжался секунд двадцать или тридцать, и смотреть на это было так страшно, что я почти забыл про свою боль.
Заметив мое присутствие, мастер изо всех сил постарался сделать обычный вид. Он заставил сведенное мучительной гримасой лицо улыбнуться натужной, вымученной улыбкой, отцепился от раковины, выпрямился и пригладил ладонью волосы. Мне хотелось сказать, что незачем притворяться, что я все видел, но голова разламывалась и я не нашел тогда слов. Мастер узнал, почему я проснулся, тотчас засуетился и принялся играть в доктора: вытряхнул из пузырька таблетку, налил в стакан воды и обследовал шишку на лбу.
— Хорошенькая мы парочка, а? — сказал он, доведя меня обратно и укладывая в постель. — Ты летишь вверх тормашками и расшибаешь лоб, а я обжираюсь испортившимися моллюсками. В рот не возьму эту гадость. Каждый раз одно и то же: съешь, а потом маешься.
Для мгновенной импровизации придумано было совсем неплохо, но он меня не обманул. Как бы мне ни хотелось поверить, я понимал, что он лжет.
На следующий день к середине дня приступ почти прошел. В левом виске осталась тупая, пульсирующая боль, но так жить уже было можно. Фонарь с шишкой на лбу красовались справа, и логичнее было бы, если бы и болело справа, однако я в подобных вещах ничего не смыслил и потому не обратил на это мелкое несоответствие никакого внимания. Мне полегчало, жизнь возвращалась в нормальное русло, к следующему представлению я буду в форме — чего еще желать? Если в тот день меня и тревожили какие-то мысли, то все они вертелись вокруг болезни мастера — болезни не болезни, а причины того жуткого приступа, который я видел в ванной. Пора было выяснить правду. Но, пусть я и не поддался на его хитрость, утром, увидев, что выглядит он почти как обычно, ни о чем не спросил. Мне не хватило духу начать разговор. Едва ли можно гордиться тем, как я себя тогда повел, однако мысль, вдруг это что-то серьезное, меня испугала, и даже додумать я ее не решился. Я предпочел не делать выводов, позволил ему считать, будто он в очередной раз обвел меня вокруг пальца. Моллюски так моллюски. Он же после этого происшествия вовсе закрылся наглухо, предприняв все возможные меры, чтобы я не застиг его врасплох еще раз и не увидел того, чего видеть не должен. Тут в нем можно было не сомневаться. Он ушел в глухое подполье, занял круговую оборону, и постепенно мне стало казаться, будто ничего и не было.