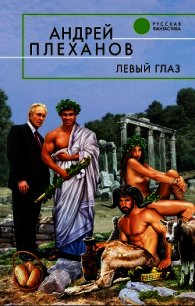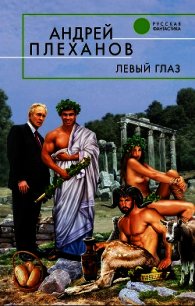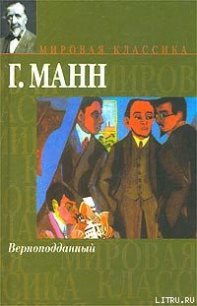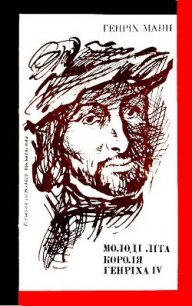Голова - Манн Генрих (книги онлайн полные TXT) 📗
Они вошли в пустую кондитерскую.
— Ты знаешь, что пьеса запрещена? — спросила Леа.
Он изменился в лице; ему не хотелось догадываться, кто виновник запрещения.
— Понятия не имею. Разве чего-нибудь добьешься от этого беспутного Гуммеля? Совершенно непонятно. Такая в сущности безобидная пьеса! — Тон у него был очень взволнованный.
— Виною, по-видимому, не пьеса, — сказала она равнодушно.
— Может быть, общество «Всемирный переворот» под подозрением или директор театра на дурном счету? — усердствовал он. — Бывают и личные причины…
— Да, бывают. — Она как будто собиралась сказать больше, но кельнерша, слушавшая разговор, помешала ей. Он поспешно расплатился, и они поехали в театр.
— Сегодня я узнаю, окончательное ли это решение.
— Члены «Всемирного переворота» — люди влиятельные, — заявил он уверенным тоном. — Нельзя ни с того ни с сего запрещать…
Она упорно молчала, пока не умолк и он.
В конторе театра, где запрещение было уже достоверно известно, Терра с жаром выступил на защиту договорных прав сестры. Когда ей было отказано во всем, кроме денег на проезд, он поднял шум, в ответ на что последовало холодное сожаление.
— Кавалеры наших дам не имеют по контракту никаких полномочий. Вашей… сестрице самой известно, как обстоит дело.
Внезапно успокоившись, он сказал:
— Вы совершенно правы. Это просто несчастный случай, — и последовал за ней.
Она повела его к себе в уборную.
— Я все объясню тебе. — Ослепительно нарядная, стояла она посреди унылой комнатушки, окнами во двор, с ободранными обоями, разбитыми зеркалами, остатками румян и жестяным тазом, полным грязной воды. Свет, отраженный от желтой стены противоположного дома, придавал свежим краскам Леи вялость и искусственность, подчеркивая гримировку губ и век. Так юны линии плеч и бедер, так созданы для успеха, — и все же минутами она напоминала ему другую. Жалкая обстановка, где создавалась такого рода обманчивая красота, и проглядывавшая сквозь прекрасную маску горечь обиды, что наполняла сердце, превращали ее в женщину с той стороны. Тот же облик, та же судьба. Испуг пронизал его до глубины души — он понял, что боится не только за нее, но и за ту, кого любит. Алиса, Леа! Возлюбленная, сестра и шлюха, — он с содроганием понял, что все три сливаются для него в некое единство.
Стремительно склонился он над рукой сестры — над рукой, что утратила уже все девическое и стала пышной плотью.
— Я все объясню тебе, — повторила она задумчиво.
А он очень бережно:
— Я объясню за тебя. Он добился запрещения пьесы, чтобы ты не выступала в Берлине, во всяком случае не выступала с такой помпой.
— Ты уже знаешь?
— Да ведь я сам, в своем преступном легкомыслии, рассказал ему о твоих гастролях. И потом, вряд ли кто-нибудь, кроме него, способен добиваться запрещения пьесы из-за того, что ревнует актрису.
— Ревнует? Ты, значит, ничего не понимаешь. Он стыдится меня. Он сам сказал…
— Тебе в глаза?
— Он сказал мне, что его положение достаточно шатко, новые неприятности окончательно погубят его. — Слабый, страдающий голосок, лихорадочно горящие глаза. Брат захохотал как безумный.
— Знаю, знаю, но так или иначе, а ему придется примириться с этим. Пусть он сломит себе шею, но я хоть избавлю его от жестоких угрызений, которые неизбежны, если он доведет тебя до смерти, поджаривая на медленном огне.
— Не говори, а действуй! — потребовала она, выпрямляясь.
Он зашагал, пыхтя папиросой, между туалетными столами, пять шагов от окна к двери, пять шагов назад. Внезапно он остановился.
— В ближайшем будущем я собираюсь увезти дочь его начальника. Мы бежим с ней, его же в качестве моего друга заподозрят в содействии — тогда он конченный человек, а ты будешь достойно отомщена.
Она была огорошена. Потом нерешительно спросила:
— Ты любишь графиню Ланна?
— И не думаю! — воскликнул он знакомым сестре хвастливым тоном.
— Теперь мне все ясно. В чем же ты хотел мне признаться?
Тут он закрыл глаза, потом открыл их и беспомощно взглянул на сестру.
— Сам не знаю. Как женщина она мне едва ли нравится и все же держит меня в плену. Она по-детски своенравна, и при этом у нее мужской ум, — как мне сладить с ней! Но едва я представлю себе, что могу навсегда потерять ее, никогда в жизни не подчинить себе и не сделать своей, как передо мной разверзается могила.
Сестра коснулась рукой его плеча.
— Не заходи далеко! Люди нашего склада никогда не могут поручиться, чем это кончится… — У нее был тон искушенного опытом человека. — Она тебя любит?
— А разве я ее люблю? Для нее это, должно быть, так же неясно, как и для меня.
— Оба вы дети! Ты никогда не увезешь ее. Ты слишком ее любишь, чтобы повредить ей. Это нам не свойственно, — сказала она ободряюще и просительно, потом с рыданием добавила: — Мы предпочитаем сами страдать.
— Да, так оно и есть! Неужели и всегда так будет? Он будет тобой вертеть как ему вздумается?
— Не делай ничего против Мангольфа!
Имя это вырвалось у нее, как вопль отчаяния; брату оставалось лишь склонить голову.
— И ему придется испытать много, много разочарований, пока я не останусь последним прибежищем. Я жду, — прошептала она.
— Еще недавно это слово привело бы меня в исступление, — заметил он, и они повернулись друг к другу спиной, чтобы поплакать про себя.
Приводя в порядок лицо, она сказала:
— Я задумала месть, которая уязвит его больнее, чем твоя, мой милый.
Он вздрогнул; ему послышался резкий, безапелляционный голос женщины с той стороны.
— Тут есть некий господин фон Толлебен… — Она попудрила нос, сдула облачко пудры, затем: — Вполне светский человек. И, кажется, даже его сослуживец. Это мне на руку.
— Да, он его сослуживец.
— Отлично. Мы с ним совершим небольшое путешествие сейчас же после рождества.
— Невыполнимая затея, дитя мое. Он женится.
— Ты знаешь наверняка? — Она отложила все, что держала в руке. — Тогда это тем более интересно. Светский человек сбежал с актрисой от свежеиспеченной супруги. В газеты такие сенсации попадают?
— Можно постараться.
— Это мне особенно важно. И имя мое может быть проставлено?
— Благодарю тебя, оно ведь и мое.
— Кто ты такой? Кто такие мы оба? Но настоящему личному секретарю настоящего министра оно будет колоть глаза. Ему легче бы увидеть собственное имя в судебной хронике. Или, думаешь, он меня не любит?
— На свой лад.
— Его лад требует взбучки, он ее получит. — Она рассмеялась с нарочитой вульгарностью, а прозвучало это надрывно. — О нем во всей истории не будет сказано ни слова, но он никому в глаза не посмеет взглянуть, — и пусть его даже вызовут к императору, он запрется у себя и будет думать обо мне. Да, будет думать обо мне.
— Великолепно! — одобрил он и оглядел ее с ног до головы, дивясь ей. — Только удастся ли тебе это?
Вместо ответа она распахнула дверь. В коридоре стоял Толлебен. При виде Леи на его грозно нахмуренном лице появилось такое просветленное выражение, какого никто от него не мог бы ожидать; Терра был чуть ли не растроган. Но когда гость заметил Терра, просветление сменилось неподдельным ужасом.
— Как? И здесь вы? — прошипел ошеломленный Бисмарк.
— Я тут ни при чем, — заверил его Терра.
— Мой брат, — представила Леа.
Тогда Толлебен протянул ему мощную руку, правда, нерешительно и смущенно.
— Ничего дурного я не замышляю, — заверил Терра. — Просто у нас одинаковые знакомства среди дам, Примем это как волю рока.
Философская точка зрения сомнительного брата вернула мужу чести и дела весь его апломб. Он небрежно заметил:
— Подумайте! Я ведь первоначально пришел сюда из-за той, другой дамы, нашей общей знакомой. Она должна выступить в феерии. — И он, оттеснив брата, завладел актрисой и повел ее по узким коридорам театра. У выхода она надумала немедленно ехать к себе в гостиницу.