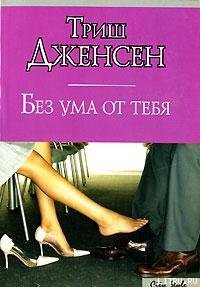Хмурое утро - Толстой Алексей Николаевич (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
– Да, эта.
– Да вы возьмите, мне она не нужна…
Рощин спрятал в карман френча Катину карточку. Взял окурок, закурил. Руки его не дрожали. Он не сбился с рассказа.
– Воинский билет – в клочки, и сюда – по ее следам. А раз уже ухватился снова за жизнь, – подавай опять и философию и идеологию: мы не ремесленники… Единственно, что для меня приемлемо… Совершенно отвлеченно, конечно, совершенно отвлеченно… Это абсолютная свобода, дикая свобода… Пускай безумная, невозможная, а впрочем… Умирать надо за какие-то пределы фантазии.
– Разведку все-таки дайте, где она у вас запрятана? – тихо сказал Махно.
Рощин осекся, отвернулся и слабо, безнадежно махнул рукой. Махно долго не шевелился на диванчике. Вдруг вскочил и стал шарить среди кучи вещей в углу комнаты, – среди оружия, седел, сбруи, бумажных свертков… Нашел несколько коробок консервов, две бутылки спирту, поставил все это на стол и, вертя ключом, стал отдирать крышку с коробки сардин.
– Я беру вас в штаб, – сказал он. – Ваша жена в шестой роте, у Красильникова, на хуторе Прохладном… Сейчас придет делегат от большевиков. Нехай его думает, что я снюхиваюсь с добровольцами. Ваша задача тень на плетень наводить. Понятно? В карты играете?
Тут Вадим Петрович действительно растерялся и только моргал, даже не пытаясь понять – как это все обернулось и что все это значит. Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами, французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло в комнате.
– Расстрелять я вас всегда успею, а использовать хочу, – сказал он, как бы отвечая на растерянные мысли Рощина. – Вы штабист или фронтовик?
– В мировую войну был при штабе генерала Эверта…
– Теперь будете при штабе батьки Махно… На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол… Так выковываются народные вожди. Понятно?
Зазвонил телефон в желтом ящике, стоявшем среди хлама на полу. Махно, присев на корточки, крикнул в трубку клекотным голосом:
– Жду, жду!
Делегат Чугай, медлительный человек, очень сильный, в поношенном, но опрятном бушлате, в бескозырке, сдвинутой на затылок, сидел, распустив карты, так, чтобы нельзя было в них подглядывать, и блестящими, навыкате, глазами следил за всеми движениями Нестора Ивановича. Широкое в скулах, неподвижное лицо его с черными усиками не выражало ничего, лишь гнутый стул потрескивал под его тяжестью. Казалось – возьми такого, подогни ему ноги в матросских штанах, заправленных в короткие и широкие голенища, посади под семь медных змей с раздутыми горлами и молись на него.
Играли в «козла», игру, выдуманную на фронтах, чтобы под смех и шутки забывать о ранах и тревогах. Нестор Иванович, как только вошли гости, не встав даже от стола, не подав руки, предложил было перекинуться в девятку на интерес (за этим-де и позвал). Быстро – не уследить глазами – сдал карты, бросил на стол бумажку в тысячу карбованцев и прикрыл ее банкой с омарами. Но Чугай взял свои две карты и подсунул их туда же под банку.
– Боишься? – спросил Махно.
Чугай ответил:
– На интерес со мной не садись. Давай в козла.
Махно, с картами под столом, откинувшись, сидел спиной к двери, имея позади себя свободное пространство (что немедленно и отметил Чугай). По левую руку его сидел Рощин, по правую – Леон Черный, член секретариата конфедерации «Набат», – клочковатый, неопределенного возраста, маленький, очень сухой, без легких в птичьей груди, про которого только и подумаешь, что жив одним духом. Мятый пиджачок его был обсыпан перхотью и седыми волосами, карты в рассеянности он развернул всем на виду.
Идя сюда, он приготовился к жестокой борьбе с Чугаем, намеревавшимся узурпировать Махно и его армию, – явление, полное неисчерпанных возможностей. Мысли Леона Черного были сосредоточенны, как динамит в жестянке. Несколько озадаченный тем, что вместо генерального боя с большевиком ему приходится играть в козла, он сбрасывал не те карты или ронял их под стол. Он уже четыре раза подряд остался козлом. «Бээшка, бээшка, вонючий!» – кричал ему Махно, смеясь одной нижней частью лица.
После каждой партии Махно обезьяньим движением протягивал руку к бутылке со спиртом и наливал в чашки и рюмки, следя, чтобы все пили вровень. Разговор за столом был самый пустой, будто и вправду собрались друзья коротать ненастный вечер, когда в черные окна сечет дождь, а ветер, забравшись в голые тополя перед домом, качает их, и свистит, и воет, как нечистая сила.
Махно выжидал. И Чугай спокойно выжидал, готовый ко всяким случайностям, особенно когда по некоторым намекам хозяина понял, что этот четвертый за столом, молчаливый, приличный, с синяками под глазами, седоголовый человек – деникинский офицер. По всей видимости, первым должен был взорваться Леон Черный, он уже вытащил грязный носовой платок, судорожно скатал его в клубочек и прикладывал к носу и глазам после каждой рюмки спирту. Так оно и случилось.
– Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками, – ворчливо проговорил он, взмахнув растопыренными картами в сторону Чугая. – Спор не кончен, и никто еще не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-крестьянское!.. Но – государство, государство! Вместо одной власти – другую. Снять барский кафтан и надеть сермяжный! И у них-то будет бесклассовое общество!
Он мелко засмеялся, прижимая платок к сухоньким губам. У Чугая на лице ничего не отразилось, он только уставился на банку с омарами, придвинул ее и, – захватив вилкой сколько влезло:
– А вы что предлагаете, интересно? Анархию, мать порядка?
– Разрушение! – зашипел на него без голоса, перехваченного спиртом, Леон Черный, и клочки его сивой бородки ощетинились, как у барбоса. – Разрушение всего преступного общества! Беспощадное разрушение, до гладкой земли, чтобы не осталось камня на камне… Чтобы из проклятого семени снова не возродилось государство, власть, капитал, города, заводы…
– Кто же у вас жить-то будет на пустом месте?
– Народ!
– Народ! – крикнул Махно, вытягиваясь к Чугаю. – Вольный народ!
– Что же с крику-то начинать, – проговорил Чугай, – тогда уже надо кончать стрельбой. – Он взял бутылку и налил всем. (Леон Черный оттолкнул свою рюмку, она пролилась.) – Взять да и развалить, это дело нехитрое. А вот как вы дальше намерены жить?
Леон Черный, – предупреждая ответ Нестора Ивановича:
– Наше дело: страшное, полное и беспощадное разрушение. На это уйдет вся энергия, вся страсть нашего поколения. Вы в плену, матрос, в плену у бескрылого, трусливого мышления. Как жить народу, когда разрушено государство? Хе-хе, как ему жить?
Махно ему – сейчас же:
– Тут мы разошлись, товарищ Черный. Мелкие предприятия я не разрушаю, артели я не разрушаю, крестьянское хозяйство не разрушаю…
– Значит, вы такой же трус, как этот большевик.
– Ну зачем, в трусости его не упрекнешь, – сказал Чугай и одобрительно подмигнул Нестору Ивановичу (испитое лицо у того было красное, как от жара углей). – Крови своей Нестор Иванович не жалел, это известно… Здорово живешь мы его вам не отдадим… За него будем драться.
– Драться? Начинайте. Попытайтесь, – неожиданно спокойно проговорил Леон Черный, и клочья бороды на его щеках улеглись. Рассеянно и жадно он занялся паштетом. Чугай покосился на Рощина, – тот равнодушно курил, подняв глаза к потолку. Нестор Иванович оскалил большие желтые зубы беззвучным смехом. «Так, понятно, сговор», – подумал Чугай. Стул под ним заскрипел. Помимо того, что надо было выполнить наказ главковерха – склонить Махно на совместные действия, – в первую голову против Екатеринослава, – Чугай имел все основания опасаться тяжелых организационных выводов в случае неудачного спора с этим анархистом, обглодавшим, наверное, не одну сотню толстенных книг. Не нравился ему и молчаливый деникинец, тоже – по морде видно – из интеллигентов. Что он из батькиного штаба, Чугай, конечно, не верил.