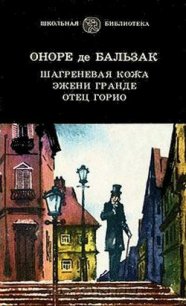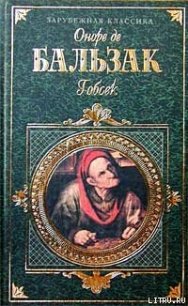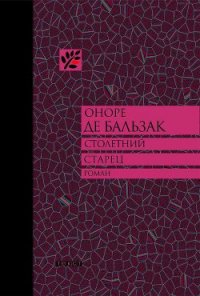Евгения Гранде - де Бальзак Оноре (хорошие книги бесплатные полностью .txt) 📗
— Дитя мое, — сказала она в предсмертную минуту, — счастье только на небесах, ты поймешь это когда-нибудь.
На другой день после ее смерти Евгения ощутила новые связи свои с этим домом, где она родилась, где столько перестрадала, где только что умерла ее мать. Она не могла без слез смотреть на окно в зале и на стул с подпорками. Ей казалось, что раньше она не знала души своего старого отца, видя нежнейшие его заботы о ней самой: он приходил и предлагал ей руку, чтобы сойти вниз к завтраку, он целыми часами смотрел на нее взором почти добрым, — словом, лелеял ее, как будто она была золотою. Старый бочар стал сам на себя непохож и так трепетал перед дочерью, что Нанета и крюшотинцы, свидетели этой слабости, приписывали ее преклонному возрасту и даже несколько опасались за умственные способности г-на Гранде; но в тот день, когда семья надела траур, после обеда, к которому был приглашен нотариус Крюшо, один только знавший тайну своего клиента, поведение его объяснилось.
— Дорогое дитя мое, — сказал он Евгении, когда убрали со стола и двери были плотно затворены, — вот ты теперь наследница матери, и нам надо уладить кое-какие дела, касающиеся нас двоих, — не правда ли, Крюшо?
— Да.
— Разве так необходимо заниматься этим сегодня, отец?
— Да, да, доченька, я не могу больше оставаться в неизвестности. Не думаю, чтобы ты хотела огорчить меня.
— О отец!..
— Так вот, надо уладить все это сегодня же вечером.
— Чего же вы хотите от меня?
— Доченька, это дело не мое. Скажите же ей, Крюшо.
— Мадемуазель, ваш отец не хотел бы ни делить, ни продавать свои имения, ни платить огромные налоги за наличный капитал, который может ему принадлежать. И вот для этого нужно было бы избегнуть описи всего состояния, в настоящее время не разделенного между вами и вашим отцом…
— Крюшо, достаточно ли вы уверены в этом, чтобы говорить так в присутствии ребенка?
— Дайте мне сказать, Гранде.
— Да, да, мой друг. Ни вы, ни моя дочь не хотите меня обобрать. Не так ли, дочка?
— Но что же я должна сделать, господин Крюшо? — нетерпеливо спросила Евгения.
— Так вот, — сказал нотариус, — нужно бы подписать этот акт, которым вы отказывались бы от наследства вашей матушки и предоставили бы вашему отцу право пользования всем вашим неразделенным имуществом, причем он обеспечивает за вами право распоряжения этим имуществом.
— Я ничего не понимаю в том, что вы говорите, — ответила Евгения. — Дайте мне бумагу и укажите место, где я должна подписать.
Папаша Гранде переводил взгляд с бумаги на дочь и с дочери на бумагу; от волнения на лбу у него выступили капли пота, и он вытирал их платком.
— Дочка, — сказал он, — вместо того чтобы подписывать этот акт, регистрация которого обойдется дорого, не лучше ли тебе просто-напросто отказаться от наследства дорогой покойницы-матери и положиться на меня в отношении будущего? По-моему, так лучше будет. Я бы тогда выдавал тебе ежемесячно кругленькую сумму в сто франков. Право, ты сможешь заказывать сколько угодно обеден, за кого хочешь. А? Сто франков в месяц, в ливрах?
— Я сделаю все, что вам угодно, папенька.
— Сударыня, — вмешался нотариус, — мой долг указать вам, что вы лишаете себя всего…
— О боже мой, — сказала она, — что мне до этого?
— Молчи, Крюшо! Сказано, сказано! — крикнул Гранде, хватая руку дочери и ударяя по ней ладонью. — Евгения, ты не откажешься от своих слов, ты ведь честная девушка, а?
— О батюшка!..
Он порывисто поцеловал ее и едва не задушил в объятиях.
— Ну, дитя мое, ты отцу жизнь даешь, но ты только возвращаешь ему то, что он тебе дал: мы квиты. Вот как делаются дела, Крюшо. Ведь вся жизнь человеческая — сделка. Благословляю тебя, Евгения! Ты добродетельная дочь, ты крепко любишь своего отца. Делай теперь, что хочешь… Значит, до завтра, Крюшо, — сказал он, глядя на пришедшего в ужас нотариуса. — Благоволите заготовить в канцелярии суда акт об отказе от наследства.
На другой день, около полудня, был подписан акт, которым Евгения добровольно согласилась на это ограбление. Однако, несмотря на данное слово, старый бочар к концу первого года не дал еще ни гроша из ежемесячной сотни франков, столь торжественно обещанной дочери. И когда Евгения шутя сказала ему об этом, он не мог не покраснеть. Он живо поднялся в свой кабинет и, вернувшись оттуда, преподнес ей около трети драгоценностей, взятых им у племянника.
— На, дочка, — сказал он с выражением, полным иронии, — хочешь получить это вместо своих тысячи двухсот франков?
— Батюшка, вы в самом деле мне их даете?
— Я дам тебе столько же и в будущем году, — сказал он, бросая ей драгоценности в передник. — Так в короткое время у тебя окажутся все его брелоки, — прибавил он, потирая руки, радуясь, что может спекулировать на чувствах дочери.
Как ни крепок был еще старик, он все же понимал, что смерть не за горами и что необходимо посвятить дочь в тайны хозяйства. Два года подряд он заставлял Евгению давать в его присутствии распоряжения по дому и получать платежи. Не спеша, постепенно он сообщал ей названия своих полей и ферм, знакомил с их состоянием. На третий год он так хорошо приучил ее ко всем видам скупости, так крепко привил ей свои повадки и превратил их в ее привычки, что без опасения доверял дочери ключи от кладовых и утвердил ее хозяйкою дома.
Прошло пять лет, и никаким событием не было отмечено однообразное существование Евгении и отца ее. Одни и те же действия совершались с хронометрической правильностью хода старых стенных часов. Глубокая грусть барышни Гранде ни для кого не была тайною; но если каждый мог догадываться о причине ее, то Евгения никогда ни одним словом не подтвердила догадок, строившихся во всех кругах Сомюра о сердечных делах богатой наследницы. Ее общество ограничивалось тремя Крюшо и несколькими их друзьями, которых они незаметно ввели в дом. Они научили ее играть в вист и каждый вечер являлись на партию.
В 1827 году Гранде, чувствуя тяжесть недугов, принужден был посвятить дочь в тайны своих земельных владений и посоветовал ей в случае затруднений обращаться к нотариусу Крюшо, честность которого была ему известна. Затем, в конце этого года, старик в возрасте восьмидесяти двух лет был разбит параличом; состояние больного быстро ухудшалось; Бержерен не оставил никакой надежды. Мысль о том, что скоро она останется на свете одна, сблизила Евгению с отцом и укрепила это последнее звено привязанности. В ее представлении, как и у всех любящих женщин, любовь была целым миром, а Шарля не было возле нее. Она с нежнейшей заботливостью ухаживала за стариком отцом, умственные способности которого начали падать, но скупость, ставшая уже инстинктивной, сохранялась. Смерть этого человека была под стать его жизни. С утра он приказывал подвозить себя в кресле к простенку между камином своей комнаты и дверью в кабинет, несомненно полный золота. Тут оставался он без движения, но тревожно глядел то на приходивших навестить его, то на обитую железом дверь. Он заставлял объяснять ему малейший доносившийся до него шум и, к большому удивлению нотариуса, слышал даже позевывания собаки во дворе. Пробуждался он от оцепенения в тот день и час, когда надо было получать платежи по фермам, рассчитываться с арендаторами или выдавать расписки. Тогда он сам двигал свое кресло на колесах и, добравшись до дверей кабинета, приказывал дочери отворить их, требовал, чтобы она собственными руками, без свидетелей укладывала одни мешки с деньгами на другие и запирала дверь. Затем он молча возвращался на прежнее место, как только она отдавала ему драгоценный ключ, всегда хранившийся в его жилетном кармане, который он время от времени ощупывал. Старый друг его нотариус, предчувствуя, что богатая наследница неминуемо выйдет за его племянника, председателя, если только Шарль Гранде не вернется, усилил заботы и внимание; каждый день он являлся к Гранде за распоряжениями, ездил по его поручению в Фруафон, на пашни, на луга, на виноградники, продавал урожай, превращая все в золото и серебро, которое тайно присоединялось к мешкам, наваленным в кабинете. Наконец наступили дни агонии, когда крепкий организм старика вступил в схватку с разрушением. Однако он не хотел расставаться со своим местом у камина, перед дверью кабинета. Он тащил на себя и комкал все одеяла, которыми его покрывали, и говорил Нанете, кутаясь в них: