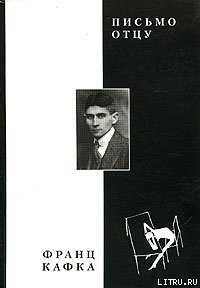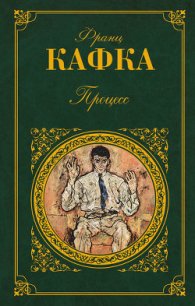Письма к Милене - Кафка Франц (книги без регистрации бесплатно полностью .txt) 📗
Что я, собственно, хочу этим сказать, я не знаю. Мне просто хотелось как-то подхватить те жалобы – не высказанные, а потаенные, – что слышатся в твоем письме, и я это могу, ведь они, по сути, и мои тоже. То, что мы с тобой даже и здесь, во тьме, так заодно, – вот что самое удивительное, и я не каждую секунду готов в это поверить – пожалуй, только через раз.
Пятница
Ночь я вместо сна провел с твоими письмами (правда, не совсем по доброй воле). Но все-таки состояние мое пока не самое плохое – бывает и хуже. Правда, не было письма от тебя, но и это, в общем-то, ничего. Сейчас это даже много лучше – что мы не пишем друг другу ежедневно; ты это – уж сознайся – раньше меня поняла. Ежедневные письма ослабляют, вместо того чтобы подкреплять; прежде, бывало, выпьешь письмо до дна – и чувствуешь в себе (я говорю о Праге, не о Меране) удесятеренную силу и одновременно удесятеренную жажду. А теперь все приняло такой серьезный оборот – теперь кусаешь себе губы, читая письма, и ни в чем, ни в чем нет уверенности, кроме этой тонкой боли в висках. Но и это пускай – об одном прошу: не болей, Милена, только не болей. Можешь не писать, хорошо (сколько мне нужно дней, чтобы справиться с двумя такими письмами, как вчерашние? Глупый вопрос – разве такое исчисляется днями?) – но пусть только не болезнь будет тому причиной. Я ведь думаю при этом исключительно о себе. Что я тогда буду делать? Скорее всего то же, что и сейчас, – но как я буду это делать? Нет, даже и думать об этом не хочу. И при этом, когда я думаю о тебе, яснее всего мне представляется вот что: ты лежишь в постели – примерно так, как лежала тогда в Гмюнде вечером на лугу (я рассказывал тебе о своем друге, а ты почти не слушала). И представление это вовсе не мучительно, оно даже лучше всего того, о чем я сейчас в состоянии думать, – итак, ты лежишь в постели, а я немножко забочусь о тебе: забегу ненадолго, приложу тебе руку ко лбу, погружусь в твои глаза, глядя на тебя сверху вниз, а потом хлопочу в комнате, постоянно, ежесекундно, с совсем уж необузданной гордостью осознавая, что я живу для тебя, что это мне дозволено, – и снова благодарю тебя за то, что ты однажды остановилась передо мной и протянула мне руку. И болезнь твоя при этом не так уж серьезна, она скоро пройдет и сделает тебя еще здоровее, чем прежде, и ты снова встанешь во всей твоей величавости, а я вскоре после этого в один прекрасный день – и надеюсь, без шума и боли – зароюсь в землю. Так что все это не мучительно – но вот стоит представить себе, что ты там, на чужбине, заболеешь…
Ты тоже любишь кондукторов, правда? Н-да, тогдашний веселый и все же так по-венски исхудалый кондуктор! Но хорошие люди есть и тут; дети хотят стать кондукторами, чтоб быть такими же могущественными и уважаемыми, разъезжать повсюду, стоять на подножке, так же низко склоняться к детям, вдобавок у них в руках компостер и множество трамвайных билетов; а вот меня все эти возможности скорее отпугивают, я бы хотел быть кондуктором, чтобы так же радоваться жизни и во всем участвовать. Однажды я шел следом за медленно катившим трамваем, а кондуктор, – (поэт зашел за мной в бюро, пускай ждет, пока я не закончу с кондуктором) – стоя на задней площадке, высунулся далеко наружу и что-то мне кричал, чего я в шуме Йозефской площади не слышал, и возбужденно жестикулировал, куда-то показывая, но я не понимал, трамвай между тем все удалялся, и усилия кондуктора становились все безнадежнее, – наконец я сообразил: золотая булавка на моем воротничке расстегнулась и он старался обратить на это мое внимание. Я вспомнил об этом сегодня утром, когда после нынешней ночи тупо, как больное привидение, сел в трамвай и протянул кондуктору 5 кр., а он, чтобы меня развеселить (не меня, конечно, потому что на меня он даже не смотрел, просто чтобы развеселить атмосферу), обронил какое-то добродушное, но пропущенное мною мимо ушей замечание насчет банкнотов, которыми сдал мне сдачу, после чего некий господин, стоявший рядом со мной, по причине этакого отличия тоже мне улыбнулся, я в свою очередь ответил улыбкой – а как же иначе? – и все впрямь стало немножко лучше. Если бы это развеселило и дождливое небо над Санкт-Гильгеном!
Суббота
Чудо, Милена, чудо, какое чудо! Самое чудесное в твоем письме (от вторника) – покой, вера, ясность, которыми оно рождено.
Еще утром ничего не было; с самим этим фактом я бы легко примирился: что касается получения писем, то тут все переменилось, зато с писанием их все осталось по-прежнему, необходимость писать – эта мука и это счастье – сохранилась; итак, с самим фактом я бы примирился: к чему мне письмо, если, например, весь вчерашний день, и вечер, и половину ночи я провел в беседе с тобой, я был при этом искренен и серьезен, как ребенок, а ты внимательна и серьезна, как мать (в действительности-то мне никогда не приходилось видеть такого ребенка и такой матери); в общем, это бы все сошло, мне только необходимо было знать причину твоего молчания, чтобы не представлять тебя все время больной в постели, в маленькой комнате, там, под осенним дождем, – ты лежишь одна, у тебя лихорадка (ты сама писала), простуда (ты сама писала), пот по ночам, усталость (все это ты писала) – вот только не это, тогда все было бы хорошо и лучшего я не желал бы.
Отвечать на первый абзац твоего письма я не хочу, я ведь даже не знаю пресловутого первого абзаца предыдущего письма. Это все очень глубоко сплетенные вещи, разделимые только в беседе между матерью и ребенком, внятные там, быть может, лишь оттого, что там им встречаться не положено. Не хочу вдаваться во все это потому, что боль притаилась в висках и ждет. Уж не поразила ли стрела любви меня в висок вместо сердца? И о Гмюнде я тоже не буду больше писать, во всяком случае намеренно. Многое мог бы я тут сказать, но, так или иначе, все сводилось бы к тому, что, даже если б я простился с тобой в тот же вечер, первый день в Вене не стал бы от этого лучше, причем у Вены было еще то преимущество перед Гмюндом, что я вернулся туда в полубеспамятстве от страха и изнеможения, в то время как в Гмюнд я приехал, ничего не подозревая, – был настолько глуп, так блистательно самоуверен, будто ничего уже не могло со мной случиться, – приехал, как домовладелец; странно, что при всем беспокойстве, то и дело меня пронизывающем, у меня так притупился инстинкт владения, – а может быть, это и есть мой главный изъян, и тут, и в других вещах.
Уже четверть третьего, твое письмо я получил лишь около двух, пока писать перестаю и иду обедать, ладно?
Перевод заключительной фразы очень хорош. [129] В этом рассказе каждое предложение, каждое слово, вся его музыка (если мне позволено будет так сказать) связаны со «страхом»; тогда, в одну долгую-долгую ночь, впервые открылась эта рана, и вот эту связь ты в переводе, по-моему, передала очень точно – но ведь на то у тебя и колдовская рука.
Пойми, что особенно мучительно в получении писем, ну да ты это знаешь. Сегодня между твоим и моим письмом, насколько это возможно в великой неуверенности, царит ясная, добрая, глубинная общность, теперь буду ждать ответов на мои прежние письма, и, признаться, я их страшусь.
Между прочим, каким это образом ты ждешь моего письма во вторник, если я только в понедельник получил твой адрес?
Воскресенье
Вчера я впал в странное заблуждение. Днем я так был обрадован твоим письмом (от вторника), а когда перечитал его вечером, вдруг понял, что оно, в сущности, почти ничем не отличается от других твоих последних писем, что оно много несчастней, чем можно вычитать из слов. Ошибка моя доказывает, насколько глубоко я погружен в самого себя, думаю лишь о себе самом, а из всего твоего удерживаю лишь то, что способен удержать, да и с тем готов убежать куда-нибудь в пустыню, пока не отняли. Я тогда оторвался от диктовки и забежал в свою комнату, а там вдруг увидел на столе твое письмо, я зашелся от радости, жадно пробежал его глазами, и поскольку там, по счастью, не оказалось никакого пропечатанного жирными буквами обвинения против меня, поскольку и в висках стучало на этот раз спокойно, поскольку я, обуянный легкомыслием, представил себе тебя возлежащей тихо-мирно в окружении гор и лесов, на берегу озера, – по всему по этому (и еще по некоторым другим причинам, тоже не имеющим ничего общего с твоим письмом и истинным твоим положением) – по всему по этому твое письмо показалось мне радостным, вот я и написал тебе совершенно безумный ответ.
129
Кафка имеет в виду сделанный Миленой перевод его рассказа «Приговор».