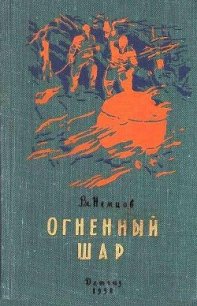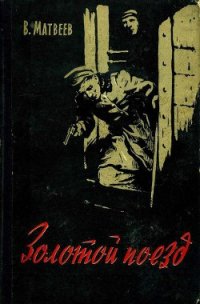Огненный ангел - Брюсов Валерий Яковлевич (бесплатная библиотека электронных книг txt) 📗
Такое истолкование событий показалось мне гораздо более правдоподобным, нежели то, которое Рената давала мне раньше, — и я, соединив наконец в одно целое отдельные нити её рассказа, спросил у неё:
— Если ты сама сознаешь, что виновата перед графом Генрихом, что ты лишила его лучшей надежды и отняла у него святую цель жизни, как же ты удивляешься, что он ненавидит тебя?
Рената медленно приподнялась с полу, посмотрела на меня вдруг высохшими глазами и потом сказала совершенно новым, твёрдым, словно отлитым из стали, голосом:
— Я, может быть, не удивляюсь вовсе. Я, может быть, рада тому, что Генрих меня ненавидит. Я плачу не по нём, но по себе. Мне не его жалко потерять, но стыдно и горько, что я могла так любить его, так предаваться ему. Я сама его ненавижу! Теперь я узнала точно, о чём догадывалась давно. Генрих обманул меня! Он — только человек, простой человек, которого можно соблазнить и которого можно погубить, а я, в безумии, воображала, что он — мой ангел! Нет, нет, Генрих — только граф Оттергейм, неудавшийся гроссмейстер своего ордена, а мой Мадиэль — на небесах вечно чистый, вечно прекрасный, вечно недоступный!
Рената сложила руки, как для молитвы, а я почёл это мгновение подходящим для того, чтобы высказать ей всё то, о чём мечтал и раздумывал на возвратном пути из Бонна. Я сказал:
— Рената! Итак, ты убедилась, что граф Генрих — не твой ангел Мадиэль, но простой смертный, который некоторое время любил тебя и которого ты любила едва ли не по заблуждению. Ныне любовь эта погасла в нём, равно как и в тебе, и твоё сердце, Рената, свободно. Вспомни же, что близ тебя есть другой, кому это сердце дороже всех золотых россыпей Мексики! Если со спокойной душой, хотя бы и без страсти, ты можешь протянуть мне свою руку и дать мне на будущее обещание верности, я приму это, как несчастный нищий королевскую милостыню, как пустынник благодать с неба! Вот, ещё раз, Рената, я на коленях перед тобой, — и от тебя зависит обратить всё своё страшное прошлое в забывающийся сон.
Рената, после моих слов, встала, выпрямилась, опустила мне руки на плечи и сказала так:
— Я буду твоей женой, но ты должен убить Генриха!
Отступив на шаг, я переспросил, так ли я расслышал, потому что ещё раз Рената несколькими словами перевернула всё моё представление о ней, словно ребёнок, перевёртывающий мешок, из которого сыплются на землю все лежавшие там вещи, — и Рената повторила мне голосом спокойным, но, по-видимому, в крайнем волнении:
— Ты должен убить Генриха! Он не смеет жить, после того как выдавал себя за другого, за высшего. Он украл у меня мои ласки и мою любовь. Убей его, убей его, Рупрехт, и я буду твоей! Я буду тебе верна, я буду тебя любить, я пойду за тобой всюду — и в этой жизни, и в вечном огне, куда откроется путь нам обоим!
Я возразил:
— Я — не наёмный убийца, Рената, не неаполитанец [cii], я не могу поджидать графа за углом и ударить его кинжалом в спину: мне честь не позволит этого!
Рената ответила:
— Неужели ты не найдёшь поводов вызвать его на бой? Ступай к нему, как ты пошёл к Агриппе, оскорби его или заставь его оскорбить тебя, — разве мало у мужчины средств, чтобы убить другого?
Меня в этой речи поразило, прежде всего, упоминание об Агриппе, так как до той минуты я был уверен, что Рената, относясь безучастно ко всему на свете, не знала о цели моей поездки. Что же касается самого требования — убить графа Генриха, то я лицемерил бы, если бы стал утверждать, что оно меня ужаснуло. Смутила меня лишь неожиданность слов Ренаты, но в глубинах души моей они сразу нашли сочувственный отзвук, словно бы кто-то ударил в медный щит перед глубокими гротами и многогласное эхо, замирая далеко, долго повторяло этот звук. И когда Рената начала теснить меня, как противник врага, загнанного в ущелье, вырывать у меня согласие, как пантера кусок мяса из чужих когтей, — я сопротивлялся не очень упорно, почти для виду, и дал ту клятву, которой она ждала.
Едва я произнёс решающие слова, как Рената переменила всё своё поведение. Внезапно заметила она, что я изнемогаю от усталости после довольно продолжительного пути; с заботливостью, которая до того времени проявлялась в ней так редко, бросилась она снимать с меня дорожное платье, принесла мне воды, чтобы умыться, разыскала мне ужин и вина. Она вдруг стала со мною как самая добрая, домовитая жена с любимым супругом или как старшая сестра с захворавшим младшим братом. Перестав говорить о графе Генрихе, словно позабыв весь наш ожесточённый разговор и мою клятву. Рената за ужином начала расспрашивать меня о моей поездке, интересуясь всем, что со мною случилось, обсуждая со мною слова Агриппы, как в счастливые дни наших общих занятий. Когда я, видя сквозь окна совершенно чёрное небо, сознавая внутренним чувством, что мы уже переступили через порог полночи, хотел, поцеловав руку Ренаты, удалиться к себе, — она тихо сказала мне, опустив глаза, как невеста:
— Почему ты сегодня не хочешь остаться со мной?
Признаюсь, этот вопрос поразил меня в самое сердце. Уже в течение многих недель Рената более не позволяла мне проводить ночи близ себя, и я вспоминал о нашей прежней близости, как о счастии недоступном. И вот, когда я, не смея мечтать о том, чтобы остаться с Ренатою, преодолевая скорбь, с нею прощался, она вдруг задала мне такой вопрос, словно бы я обижал её своим уходом!
Не вспомню, что я ответил Ренате, знаю только, что мы остались вместе, и этот раз Рената не захотела, чтобы я устроился на деревянном помосте близ её постели, но позвала меня лечь с нею рядом, опять как в первые дни. Мало того, тотчас Рената стала прижиматься ко мне всем телом, как любовница, целовала меня, искала моих губ, моих рук, всего меня. И когда я, отстраняясь, сказал ей, что она не должна искушать меня, Рената отвечала мне:
— Должна! Должна! Я хочу быть с тобой! Сегодня я хочу тебя!
Так неожиданно совершилось наше первое соединение с Ренатою, как мужчины с женщиной, в день, когда я всего менее ждал этого, после разговора, который всего менее вёл к этому. Та ночь стала нашей первой брачной ночью, после того как немало ночей мы провели на одной постели, словно брат и сестра, и после того, как несколько месяцев мы жили рядом, словно скромные друзья. Но, когда я, в муке неожиданного счастья, опьянев от свершения всего, что мне уже казалось невозможным, приник, истомлённый, к губам Ренаты, чтобы поцелуем благодарить её за свой трепет, — вдруг увидел я, что её глаза вновь полны слезами, что слёзы текут по её щекам и что губы её искривлены улыбкой боли и безнадёжности. Я воскликнул:
— Рената! Рената! Неужели ты плачешь?
Она ответила мне сдавленным голосом:
— Целуй меня, Рупрехт! Ласкай меня, Рупрехт! Ведь я же отдалась тебе! Ведь я же отдала тебе всё моё тело! Ещё! Ещё!
Почти в страхе, упал я ниц на подушки, сам готовый плакать и скрежетать зубами, но Рената с насилием влекла меня к себе, заставляя быть живым орудием её пытки, добровольным, но содрогающимся палачом, терзая и распиная себя, с ненасытимой жаждой, на колесе ласк и кресте сладострастия. Она обманывала меня, снова и снова, притворной нежностью, соблазняла страстью, может быть, и не искусственной, но предназначавшейся не мне, и, вбросив своё тело в пламя и в пилы, стонала от блаженства — чувствовать боль, плакала от последней радости — презирать себя. И до самого утра длилась эта чудовищная игра в любовь и счастье, в которой поцелуи были острыми клинками, призывы к наслаждению — угрозами судьи, влага страсти — кровью, а вся наша брачная постель — чёрным застенком.
Этот вечер, когда во имя любви от меня потребовали убийства, и эта ночь, когда во имя страсти от меня потребовали мук, остались самым страшным из моих бредов, и сон изнеможения, избавивший меня от дьявольских видений, оказал мне милость большую, чем то могли все владыки мира.
Я утром проснулся измученный сильнее, чем был бы после полугодового заключения в подземной тюрьме: мои глаза едва в силах были смотреть на свет и сознание моё было тускло, словно плохое стекло. Но Рената, порой, бывала как из металла, твёрдая и упругая, не знающая никакого утомления, и когда я впервые встретил её взгляд — он был всё тот же, что накануне. Для меня всё было ещё так смутно, что я готов был сомневаться, живы ли мы оба, а Рената уже звала меня с безжалостной настойчивостью: