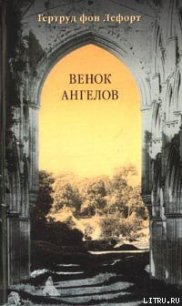Плат Святой Вероники - фон Лефорт Гертруд (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
Пока перед главным алтарем читали из Пророков, мы прохаживались взад-вперед в глубине базилики. Бабушка была еще под впечатлением «Exsultet». Она сказала, что это самый мощный из всех гимнов жизни, которые когда-либо звучали, что он и раньше приводил ее в необычайное волнение, но никогда еще не действовал на нее так, как сегодня.
Энцио, который всегда своенравничал, когда боялся своей собственной растроганности, заявил, что этот гимн, конечно же, прекрасен, как поэзия, но заключенная в нем мысль кажется ему сомнительной. Что вечной жизни для себя лично он не может себе ни представить, ни пожелать. Более того – она даже противоречит его максималистскому жизненному инстинкту, требующему или всего, или ничего.
– Друг мой, вы еще очень молоды, и собственная жизнь кажется вам невыразимо прекрасной, – ответила бабушка.
Первые слова она произнесла торопливо и страстно, как и всегда, когда оживлялась. Но потом голос ее вдруг словно окутался странной тоской, как будто собственные слова навели ее на мысль, от которой она, в сущности, была совсем далека, – это был тон, которого я никогда не слышала из ее уст.
Свечи и лампады горели уже у всех алтарей, дивный огонь пасхальной свечи вспыхнул сотнями маленьких язычков. И все же вдруг появилось ощущение, как будто в этом свечении и мерцании, во всем этом буйстве радости присутствует еще что-то, о чем мне никогда не говорили, нечто тихое и трепетное, нечто белоснежное и потустороннее, некое «noli me tangere» [46], которое светилось как бы вовсе не здесь и сейчас, а где-то далеко-далеко над темными безднами земли и ночи. Мне вдруг опять вспомнился собор Святого Петра – как будто все это ликование было некой победой за темными вратами, к которым меня манил тихий голос, вопрошавший все эти дни: «А ты можешь быть печальной?» Но вот над главным алтарем, где уже началась месса, воссияла «Gloria» [47]; зазвонили колокола, грянул орган, и наконец все это заглушило ликующее «аллилуйя». Оно вновь и вновь вздымалось вверх, словно волны благодарности и любви, заливающие храм. Казалось, будто все тени внезапно расцвели блеском славы, будто сама черная земля вдруг превратилась в свет, а все ее камни – в крылья. Я испытывала бурное желание присоединиться к этому ни с чем не сравнимому ликованию, но в то же время чувствовала нежную преграду, отделявшую меня от него и вселявшую в меня странную робость. Даже когда во время мессы подняли Святые Дары, мне казалось, что они воспарили над ним как тихая отрешенность. Или, может, причиной тому была эта робость моего сердца, вдруг устремившегося глубже, ближе к нему?..
Потом мы еще раз зашли в Сан Джованни ин фонте [Fonte (ит.) – родник, источник.
], где до этого освящали воду для крещения. Баптистерий был слишком мал, чтобы вместить всех желающих, и вначале нас не пустили внутрь. Теперь здесь не было ни души, остался лишь тонкий сладкий аромат: каменный пол и ступени перед купелью – античной базальтовой ванной – усеяны были цветами. Я вдруг спросила бабушку, крестили ли меня. Она взглянула немного удивленно, но потом, вероятно, простодушно решила, что в моем вопросе вовсе нет никакого тайного смысла. Нет, ответила она, я так и осталась маленькой язычницей, причем формально – единственной в нашей семье. Сама она еще по традиции крестила своих дочерей, отец же мой, окончательно порвавший с Церковью, воспротивился этому обычаю в отношении своего ребенка.
Пока бабушка объясняла мне это, Энцио постепенно отдалился от нас; я так и не поняла, не обиделся ли он из-за моего вопроса. Я слышала, как он заговорил со старым хранителем о знаменитой бронзовой двери баптистерия, которая была перенесена сюда из терм Каракаллы и славилась тем, что при открытии и закрытии удивительно мелодично – в октаву – гудела. Бабушка направилась к нему, а я осталась одна на ступенях купели. У меня появилось ощущение, как будто по всему этому маленькому, тихому, древнему баптистерию разлилась неописуемая благодать, ни с чем не сравнимые мир и радость, – как будто для меня пасхальная свеча должна была загореться лишь теперь, в этом помещении. Я подняла с пола у края бассейна несколько цветков, чтобы отнести их тетушке Эдельгарт. При этом я почувствовала к ней такую любовь, какой еще никогда не испытывала. Я подумала о предстоящем ей воцерковлении, которое, как я полагала, должно было состояться очень скоро. Меня охватило вдруг нетерпение: казалось, я не доживу до этого дня.
Между тем хранитель, отворив бронзовую дверь, отпустил ее, и она вновь закрылась с низким, протяжным гудением. Этот тихий, полусердитый-полужалобный, почти зловещий звук медленно прокатился над купелью. Хранитель сказал, очевидно повторяя давно затверженную шутку:
– Эта дверь все еще протестует против святой воды!..
Когда закончились пасхальные торжества, Энцио, вместо того чтобы собирать чемоданы, вновь уединился в своей комнате и совершенно погрузился в свою поэзию. Он телеграфировал матери, что у него родилась новая идея и ни о каком отъезде пока не может быть и речи. На это Госпожа Облако вообще ничего не ответила: вероятно, она лучше, чем мы, знала, что означает, когда ее сын стихотворствует, и потому сочла излишним выражение своего согласия. А Энцио даже не осведомился, пришло ли ответное известие от матери, – у них явно был некоторый опыт в отношении подобных ситуаций. Впрочем, на этот раз период его творческого подъема протекал для нас гораздо благоприятнее: мы его в эти дни вообще не видели. Он один ходил гулять и между прочим соблаговолил сообщить нам, что хотел бы принимать пищу у себя. Жаннет вызвалась относить ему еду, и мы были этому чрезвычайно рады, так как наша подруга в своей миниатюрности и легкости обладала способностью почти парить в воздухе и не могла помешать Энцио своим появлением и исчезновением. И она действительно в то время лучше всех нас ладила с Энцио, похоже было, что он даже по-своему выказывал ей благодарность, так как она находила, что он «очень мил» в своей отрешенности и у него вполне довольный вид, что позволяет предположить успешное продвижение работы. Вот только автомобили, проносящиеся мимо нашего дома, выводят его из равновесия, сообщила Жаннет, и он то и дело разражается ужасной бранью; однажды он заявил, например, что за каждое техническое изобретение должно быть предусмотрено уголовное наказание, а изобретателя автомобиля следовало бы в свое время подвергнуть смертной казни. Бабушка со смехом заметила, что тем не менее каждый день видит, как он уезжает из дома и возвращается домой на автомобиле. Впрочем, он заботил ее в то время меньше, чем когда бы то ни было: ее мысли – как и мои – тогда были заняты прежде всего тетушкой Эдельгарт. Мы каждый день ожидали известия о ее свершившемся обращении, и добровольное затворничество Энцио было бабушке сейчас очень кстати. Я и раньше иногда замечала, что она немного опасается, как бы он не обратил более пристального внимания на ее дочь. Связано это было, как мне казалось, с пристрастием Энцио к известным психологическим теориям, которые вызывали неприязнь бабушки, считавшей, что все они в большей или меньшей мере лишь голая казуистика. При этом она, возможно, подсознательно боялась, что Энцио незаметно разгадает загадку тетушкиной души, ибо, хотя Энцио всегда требовался человек простой, человек с отчетливой, ясной общей линией, – «всего лишь-человека», как он выражался, – но в жизни он, по обыкновению, быстрее понимал сложную, проблематичную личность, так как она была ближе его собственной натуре.
Я в то время непрестанно думала о тетушке Эдельгарт, и не проходило дня, чтобы я не вспомнила перед лицом Божественной любви о ее воцерковлении. Часто, когда она возвращалась от патера, а я поджидала ее внизу, в галерее, чтобы на ходу поцеловать ей руку, с языка у меня готов был сорваться вопрос: когда? Но я подавляла свое нетерпение из любви к ее нежности и робости. Я хотела дождаться, когда она сама скажет мне: сегодня.
46
«Не прикасайся ко мне» (лат.) – слова Иисуса Христа, обращенные к Марии Магдалине (Иоанн, XX, 17). Часто встречаются в значении «святыня», «святая святых».
47
«Слава» (лат.) – хвалебная песнь ангелов. В католической мессе, состоящей из шести частей, «Gloria in excelsis Deo» («Слава в вышних Богу») составляет вторую часть.