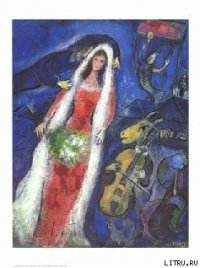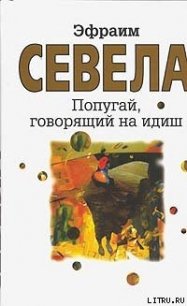Блуждающие звезды - Шолом- Алейхем (первая книга TXT) 📗
У ее брата Изака Швалба были свои соображения: он вообще считал, что Рафалеско для его сестры – подходящая партия. Слишком много бездельников увивается вокруг нее. Ему надоело быть ее неусыпным стражем и костоломом… Генриетте пора уже составить приличную партию, потому что такая «дуреха» с красивым личиком, как его сестра, может еще попасть черт знает в какие руки. Поэтому Швалб первым долгом стал держаться поближе к директору Гольцману, стараясь приобрести его расположение то лестью, то бесплатными обедами; словом, они зажили, как говорится, душа в душу.
Гольцман, который был столь же умен, как они все вместе взятые, а может быть, еще умнее, очень хорошо видел, что тут творится, и в душе смеялся над всей этой интригой. Гоцмах, представьте себе, был проницательнее их всех. Он и сам был не прочь переманить к себе красивую примадонну с ее братом и с еще несколькими «певчими» из театра Гецл бен-Гецла. Почему бы и нет? Почему бы ему не оставить этого тупицу «Иокл бен-Флекла» на бобах?.. К тому же, – будем откровенны до конца, – наш Гольцман сам имел некоторые виды на Генриетту: быть может, она привыкнет к нему, к Гольцману то есть, и со временем – чем черт не шутит… Не вечна же ему оставаться холостяком. Она, правда, к нему холодновата, но против этого тоже есть средство: бенефис, подарочек, снова бенефис и снова подарочек. Главное, чтобы было за что платить, а денег не жаль, черт бы их батьку взял…
Так думал про себя Гольцман и от души радовался, что красотка кокетничает с его Рафалеско. Не мог он только одного понять: почему этот глупый «паренек» избегает примадонны Генриетты Швалб?.. И что вообще с ним произошло здесь, во Львове? Отчего он так задумчив, угрюм и кажется более озабоченным, чем всегда?
Глава 53.
Брайнделе-козак
В первый же вечер, когда Гольцман со своей труппой появился во Львове в театре Гецл бен-Гецла, он увидел за кулисами знакомую фигуру женщины низенького роста. Так как кулисы Львовского еврейского театра и по ею пору, говорят, не освещены электричеством (там едва мерцает одна-единственная коптящая и невыносимо чадящая керосиновая лампочка), то он не сразу догадался, кто бы это мог быть. С минуту ему казалось, что это и впрямь знакомая, а потом подумал, что ему, пожалуй, это только померещилось. Но женщина подошла к нему чуть ближе и засмеялась, широко открыв рот. Значит, она его узнала. Тогда он шагнул к ней, пристально вгляделся и отскочил:
– Брайнделе-козак?!
– Гоцмах?!
– Тесе!.. Никто не должен знать, что мы знакомы… Боже, что с вами сталось? Вы так раздобрели. Вы служите здесь, у этого чурбана Иокл бен-Флекла? Давно? А где наш Щупак? А мерзавец Шолом-Меер Муравчик? Холера бы их обоих задушила в один день!..
– Аминь, – ответила Брайнделе-козак усмехаясь.
Но в это время раздался звонок. А так как артисты собирались на сцену и режиссер торопил их, гнал, можно сказать, во всю прыть, – пора, мол, уже поднять занавес, не то публика разнесет театр, – Гольцману и Брайнделе пришлось расстаться до конца первого акта. Но они успели договориться, что никто – ни зверь, ни птица залетная, – никто не должен знать о том, что они были раньше знакомы.
Гольцман сейчас же пошел к своему юному другу в уборную и шепнул ему на ухо, что он только что встретился с бывшей актрисой Щупака, мадам Черняк, или, как ее называют, Брайнделе-козак. Рафалеско, вероятно, помнит ее по Голенешти. Маленькая такая, толстенькая. При этом Гольцман несколько раз повторил Рафалеско, чтобы он при встрече с ней за кулисами сделал вид, будто видит ее впервые.
В уборной, где переодевался юный гастролер, было ничуть не светлее, чем за кулисами. К тому же Рафалеско в это время гримировался, глядя в закоптелое, надтреснутое зеркало. Не удивительно поэтому, что зоркий глаз Гольцмана не заметил, как сразу изменилось лицо его юного друга. С минуту Рафалеско не мог произнести ни слова. Дыхание сперло. Потом он с притворным равнодушием спросил Гольцмана, не переставая гримироваться перед надтреснутым зеркалом:
– Как, говоришь, ее звали?
– Брайнделе-козак.
– Брайнделе-козак? Гм… Не помню такой… Надеюсь, ты познакомишь меня с ней… Как тебе нравится мой грим?
– Грим великолепен!.. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами и с ней тоже, надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые. Понимаешь? К чему нам, чтобы кто-нибудь узнал, что и как?.. Понимаешь или нет?
Конечно, он понимает. Чего тут не понимать? Который час? Пора уже? Чей выход? Его? Раз, два, три!
– С правой ноги! – говорит Гольцман, поправляя на нем парик.
В этот вечер Рафалеско играл неважно, хуже, чем когда бы то ни было. То есть для публики он играл хорошо, великолепно, чудесно. Лучшее доказательство – громовые аплодисменты, оглушительные возгласы «браво» и бурные овации, которыми зрители наградили бухарестского гостя. Но сам Рафалеско знал лучше всех, что он сегодня играл как сапожник. Руки, ноги следовало ему перебить за такую игру и в солдаты сдать. Много слов он пропустил, много добавил. Суфлера не слушал. Очень фальшивил. Еле-еле, с большим трудом отбарабанил первый акт. Убежал со сцены, ускользнул от публики, которая, как назло, неистовствовала, безумствовала и не переставала кричать: «Ра-фа-ле-ско! Ра-фа-ле-ско!» Бросился к надтреснутому зеркалу, глаза горят. Он весь в жару. В уборной теснота невероятная, булавке негде упасть. Вся труппа Гецл бен-Гецла собралась сюда поздравить гостя, – кто искренне, а кто с чувством скрытой зависти. Ему представляют одного за другим всех актеров. А ему кажется, что он видит перед собой не людей, а зверей и птиц. Один как будто очень похож па козу, другой сильно напоминает петуха, третья, – он бы мог в этом поклясться, – выглядит точь-в-точь, как кошка: зеленые кошачьи глаза, и облизывается, как кошка…
Рафалеско тотчас узнал Брайнделе-козак. Она его тоже узнала, хоть он вырос за это время и к тому же был загримирован. Она его не раз видела в сарае с Гоцмахом, когда они играли в Голенешти. «Неужели это он? Ай-яй-яй!» Как молния, ее озарила мысль, и молнией осветила перед ней целый ряд комбинаций, только что зародившихся у нее в голове. В общей сутолоке она незаметно отозвала Гольцмана в сторону:
– Вот это твой Рафалеско из Бухареста, ха-ха? Да ведь это сынок бывшего хозяина сарая из Голенешти…
– Тс… с… с… – шепнул Гоцмах, наступая ей на ногу, – ни слова… Поговорим лучше о другом.
– О чем, например?
Она пристально заглянула в его острые, пронизывающие глаза и подумала: «Как может измениться человек! Поди угадай, что это тот самый Гоцмах, который когда-то чистил ботинки у Щупака и получал тумаки, точно собака в мясной лавке…»
– Где же в конце концов Щупак, черт его возьми? А Шолом-Меер Муравчик? А прочие свистуны?
И вопросы посыпались один за другим без передышки. Она не знает, на что раньше отвечать: не успевает она ответить на один вопрос, как тот уже забегает вперед, засыпает ее десятками новых вопросов. И все это он делает второпях, не давая ей опомниться. У него в голове один только Щупак, все Щупак да Щупак. А ей бы хотелось скорее узнать, как попал сюда этот «паренек»… И взоры обоих устремлены в одну точку – в сторону Рафалеско…
«Слишком много народу вьется вокруг парня, – думает Гольцман. – Оставить его одного среди такой стад волков-актеров немного опасно…»
И разговаривая с Брайнделе, он глаз не сводит с Рафалеско. Невзирая на царящий в уборной полумрак, он ясно видит, как все протискиваются к гостю, «к молодому артисту из Бухареста». Всякому хочется увидеть его поближе, пожать ему руку, услыхать от него слово. Но гость что-то не расположен разговаривать, он ищет кого-то глазами. Кого? Маленькую, толстенькую женщину, именуемую мадам Черняк, или Брайнделе-козак. Он видит ее в уголке – она стоит рядом с Гольцманом и разговаривает с ним. Рафалеско хочет подойти к ней, но сдерживается. С минуту ему кажется: вот он сбросит с себя грим и побежит к ней. «Не слыхали ли вы, не встречали ли вы девушку по имени Рейзл? Вы, вероятно, догадываетесь, кого я имею в виду; это дочь голенештинского кантора…» Нет, он скажет это не только ей одной втихомолку, он спросит громко, во весь голос, так, чтобы все слышали. Он чувствует, как слова застревают у него в горле, душат его, щекочут. А тут перед глазами мелькают лица животных и птиц, которых он не хочет видеть. Он слышит слова, комплименты, которые ему неинтересно слышать. Вдруг он замечает, что к нему пробирается сквозь толпу какой-то субъект, низенький, в золотых очках, с треугольным черепом и со странными большими зубами, которые растут один на другом. Лицо этого человека сияет. Глаза сквозь очки сверкают. Изо всех сил протискивается он сквозь толпу. Актеры и актрисы, увидя издали, перешептываются.