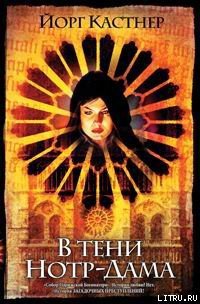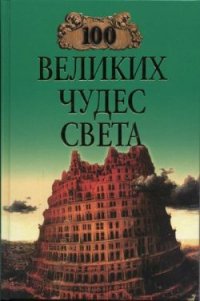Собор Парижской Богоматери - Гюго Виктор (библиотека книг txt) 📗
Вторым последствием этого несчастья был злобный нрав Квазимодо.
Он был злобен, потому что был дик; он был дик, потому что был безобразен. В его природе, как и в любой другой, была своя логика.
Его непомерно развившаяся физическая сила являлась еще одной из причин его злобы. Malus puer robustus [51], – говорит Гоббс.
Впрочем, следует отдать ему справедливость: его злоба, надо думать, не была врожденной. С первых же своих шагов среди людей он почувствовал, а затем и ясно осознал себя существом отверженным, затравленным, заклейменным. Человеческая речь была для него либо издевкой, либо проклятием. Подрастая, он встречал вокруг себя лишь ненависть и заразился ею. Преследуемый всеобщим озлоблением, он наконец поднял оружие, которым был ранен.
Лишь с крайней неохотой обращал он свой взор на людей. Ему вполне достаточно было собора, населенного мраморными статуями королей, святых, епископов, которые по крайней мере не смеялись ему в лицо и смотрели на него спокойным и благожелательным взором. Статуи чудовищ и демонов тоже не питали к нему ненависти – он был слишком похож на них. Насмешка их относилась скорее к прочим людям. Святые были его друзьями и благословляли его; чудовища также были его друзьями и охраняли его. Он подолгу изливал перед ними свою душу. Сидя на корточках перед какой-то статуей, он часами беседовал с ней. Если в это время кто-нибудь входил в храм, Квазимодо убегал, как любовник, застигнутый за серенадой.
Собор заменял ему не только людей, но и всю вселенную, всю природу. Он не представлял себе иных цветущих живых изгородей, кроме никогда не блекнущих витражей; иной прохлады, кроме тени каменной, отягощенной птицами листвы, распускающейся в кущах саксонских капителей; иных гор, кроме исполинских башен собора; иного океана, кроме Парижа, который бурлил у их подножия.
Но что он любил всего пламенней в своем родном соборе, что пробуждало его душу и заставляло ее расправлять свои жалкие крылья, столь беспомощно сложенные в тесной ее пещере, что порой делало его счастливым, – это колокола. Он любил их, ласкал их, говорил с ними, понимал их. Он был нежен со всеми, начиная с самых маленьких колоколов средней стрельчатой башенки до самого большого колокола портала. Средняя колоколенка и две боковые башни были для него словно три громадные клетки, в которых вскормленные им птицы заливались лишь для него. А ведь это были те самые колокола, которые сделали его глухим; но ведь и мать часто всего сильнее любит именно то дитя, которое заставило ее больше страдать.
Правда, звон колоколов был единственным голосом, доступным его слуху. Поэтому сильнее всего он любил большой колокол. Среди шумливой этой семьи, носившейся вокруг него в дни больших празднеств, он отличал его особо. Этот колокол носил имя «Мария». Он висел особняком в клетке южной башни, рядом со своей сестрой «Жакелиной», колоколом меньших размеров, заключенным в более тесную клетку. «Жакелина» получила свое имя в честь супруги Жеана Монтегю, который принес этот колокол в дар собору, что, однако, не помешало жертвователю позже красоваться обезглавленным на Монфоконе. Во второй башне висели шесть других колоколов, и, наконец, шесть самых маленьких ютились в звоннице средней башенки вместе с деревянным колоколом, которым пользовались лишь на Страстной неделе, с полудня чистого четверга и до светлой заутрени. Итак, Квазимодо имел в своем гареме пятнадцать колоколов, но фавориткой его была толстая «Мария».
Трудно вообразить себе восторг, испытываемый им в дни великого звона. Как только архидьякон отпускал его, сказав «иди», он взлетал по винтовой лестнице быстрее, чем иной спустился бы с нее. Запыхавшись, вступал он в воздушное жилище большого колокола. С минуту он благоговейно и любовно созерцал колокол, затем начинал ему что-то шептать; он оглаживал его, словно доброго коня, которому предстояла трудная дорога; он уже заранее жалел его, ибо ему предстояли испытания. После этих первых ласк он кричал помощникам, находившимся в нижнем ярусе, чтобы они начинали. Те повисали на канатах, ворот скрипел, и исполинская медная капсула начинала медленно раскачиваться. Квазимодо, трепеща, следил за ней.
Первый удар медного языка о внутренние стенки колокола сотрясал балки, на которых он висел. Квазимодо, казалось, вибрировал вместе с колоколом. «Давай!» – вскрикивал он, разражаясь бессмысленным смехом. Колокол раскачивался все быстрее, и по мере того как угол его размаха увеличивался, глаз Квазимодо, воспламеняясь и сверкая фосфорическим блеском, раскрывался все шире и шире.
Наконец начинался великий звон; вся башня дрожала; балка, водосточные желоба, каменные плиты – все, от свай фундамента и до увенчивающих башню трилистников, гудело одновременно. Квазимодо кипел, как в котле; он метался взад и вперед; вместе с башней он дрожал с головы до пят. Разнузданный, яростный колокол разверзал то над одним просветом башни, то над другим свою бронзовую пасть, откуда вырывалось дыхание бури, распространявшееся на четыре лье кругом. Квазимодо становился перед этой отверстой пастью; следуя движениям колокола, он то приседал на корточки, то вставал во весь рост; он вдыхал этот сокрушающий смерч, глядя то на площадь с кишащей под ним на глубине двухсот футов толпой, то на исполинский медный язык, ревевший ему в уши. Это была единственная речь, доступная его слуху, единственный звук, нарушавший безмолвие вселенной. И он нежился, словно птица на солнце. Вдруг неистовство колокола передавалось ему; его глаз приобретал странное выражение; Квазимодо подстерегал колокол, как паук подстерегает муху, и при его приближении стремглав бросался на него. Повиснув над бездной, следуя за колоколом в страшном его размахе, он хватал медное чудовище за ушки, плотно сжимал его коленями, пришпоривал ударами пяток и всем усилием, всей тяжестью своего тела усиливал неистовство звона. Вся башня сотрясалась, а он кричал и скрежетал зубами, рыжие его волосы вставали дыбом, грудь пыхтела, как кузнечные мехи, глаз метал пламя, чудовищный колокол ржал, задыхаясь под ним. И вот это уже не колокол Собора Богоматери, не Квазимодо, – это бред, вихрь, буря; безумие, оседлавшее звук; дух, вцепившийся в летающий круп; невиданный кентавр, получеловек, полуколокол; какой-то страшный Астольф, уносимый чудовищным крылатым конем из ожившей бронзы.
Присутствие этого странного существа наполняло собор дыханием жизни. По словам суеверной толпы, он как бы излучал некую таинственную силу, оживлявшую камни Собора Богоматери и заставлявшую трепетать глубокие недра древнего храма. Людям достаточно было узнать о его присутствии в соборе, и вот им уже чудилось, что бесчисленные статуи галерей и порталов оживают и двигаются. И в самом деле, собор казался покорным, послушным его власти существом; он ждал приказаний Квазимодо, чтобы возвысить свой мощный голос; он был одержим, полон им, словно духом-покровителем. Казалось, Квазимодо вливал жизнь в это необъятное здание. Он был вездесущ: как бы размножившись, он одновременно присутствовал в каждой точке храма. Люди с ужасом видели, как карабкается карлик по верху башни, извивается, ползет на четвереньках, повисает над пропастью, перепрыгивает с выступа на выступ и обшаривает недра какой-нибудь каменной горгоны, это Квазимодо разорял вороньи гнезда. В укромном углу собора наталкивались на некое подобие ожившей химеры, насупившейся и скорчившейся, – это был Квазимодо, погруженный в раздумье. Под колоколом обнаруживали чудовищную голову и мешок с уродливыми щупальцами, остервенело раскачивавшийся на конце веревки, – это Квазимодо звонил к вечерне или Angelas'y [52]. Ночью часто видели отвратительное существо, бродившее по хрупкой кружевной балюстраде, венчавшей башни и окаймлявшей окружность свода над хорами, – то был горбун из Собора Богоматери.
И как уверяли кумушки из соседних домов, собор принимал тогда фантастический, сверхъестественный, ужасный вид: раскрывались глаза и пасти; слышен был лай каменных псов, шипенье сказочных змей и каменных драконов, которые денно и нощно с вытянутыми шеями и разверстыми зевами сторожили громадный собор. А в ночь под Рождество, когда большой колокол хрипел от усталости, призывая верующих на полуночное бдение, сумрачный фасад здания принимал такой вид, что главные врата можно было принять за пасть, пожирающую толпу, а розетку – за око, взирающее на нее. И все это творил Квазимодо. В Египте его почитали бы за божество этого храма; в средние века его считали демоном; на самом же деле он был душой собора.
51
Здоровый малый злобен (лат.)
52
«Ангел» – первое слово молитвы, читаемой при звоне колокола утром, в полдень и вечером.