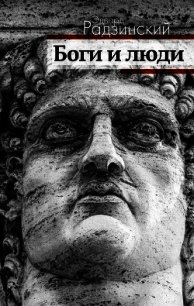Все люди — враги - Олдингтон Ричард (бесплатные серии книг .TXT) 📗
— Стадо свиней, — пробормотал про себя Тони, продолжая читать. Скоро он обнаружил, что прочел целую страницу не связанных между собой слов и не уловил ни единой мысли. Он вернулся обратно и заставил себя читать внимательно, но через несколько минут поймал себя на том, что смотрит поверх страницы, задумавшись о чем-то другом. Его собственные мысли были более настойчивы и больше притягивали его, чем эти жалкие вымыслы. Скорее это были даже не мысли, а поток образов и душевных переживаний, которые вряд ли могли быть выражены словами. Смутные картины войны, смешивались с гораздо более мучительными и отчетливыми видениями мест и людей, всплывавших в памяти из давнего прошлого. Все, что делало жизнь прекрасной и интересной, вызывало у него чувство какого-то непоправимого краха, все было так или иначе уничтожено, затоптано, осквернено. Было даже какое-то ощущение стыда, оттого что он уцелел, — а какой смысл в этом, если и тело и душа отравлены? Даже одиночество отравлено. Как жить, уже не мечтая о счастье, — с этим надо проститься навсегда, — но сохранив хотя бы крупицу самоуважения, хоть что-то положительное, на что можно было бы как-то опереться.
Пытался ли он заглянуть в самого себя или мысли его обращались к другим людям, к жизни вообще, — все неизменно кончалось этим необозримым смятением, словно он пытался обуздать бушующее море. И неизвестно, что было мучительней: думать об убожестве и мерзости настоящего или красоте и блаженстве прошлого? Некоторых воспоминаний он сознательно старался избегать — они были нестерпимы — и все же неизменно возвращался к ним. Кэти. Нет. Нет. Нет! Не думать о Кэти!
И, как если бы она была здесь рядом, он вдруг увидел ее глаза, полные горячей нежности, и услышал ее голос: «Хочешь сделать меня матерью твоего ребенка?» Тони вскочил и зашагал по комнате.
Воспоминание о ее голосе было так мучительно, словно каждое ее слово наносило глубокую рану.
Он судорожно стиснул кулаки и в отчаянии начал бить себя по лбу, потом замер, глубоко вдыхая воздух, стараясь овладеть собой, не поддаваться этому безумию. Все существо его стремилось к смерти — умереть, покончить со всем. Он поймал себя на том, что бессмысленно твердил «куда-нибудь, куда-нибудь, вон из этого мира». Жизнь тлела в нем крошечной искоркой упрямой гордости, отчаянной, но бессильной решимостью не допустить, чтобы все это зло и боль восторжествовали над ним.
Искорка разгорелась в слабый огонек. Он выбрался из бездны. И даже как будто не ощущал ничего необычного в том, что сейчас пережил еще одну схватку со смертью. Теперь он уже чувствовал в себе решимость продолжать борьбу. Он вытер влажное от пота лицо, шею, вернулся к камину, взял дрожащей рукой наполовину пустой стакан с бренди и допил его. В углу лежал его дорожный мешок, он порылся в нем, нашел свой армейский револьвер и резким движением открыл барабан, так что все шесть тяжелых патронов упали ему на ладонь. Потом, вставив барабан обратно, он положил револьвер на маленький столик и понес патроны в ванную комнату. Энтони открыл окно, в лицо хлестнули струя холодного воздуха и снежные хлопья. Тишина спящего Лондона казалась еще более глубокой от падавшего снега. Он бросил патроны в маленький закопченный садик, сейчас покрытый мягкой дремотной белизной, и увидел, как один из них прорезал в снегу бороздку, как раз в том месте, куда падал свет из окна. Вернувшись в комнату, он подошел к стулу, на котором висела его тужурка, и достал из кармана табак и трубку. Вечерняя газета все еще валялась возле корзины для бумаг, куда он швырнул ее накануне вечером.
И жирный заголовок «Проклятье кайзеру!» опять бросился ему в глаза.
— Какая чушь! — сказал Тони и отшвырнул газету ногой. Закурив трубку, он взял свое вечное перо, положил на стол большой блокнот и стал писать:
«Кэти, Кэти, дорогая моя Кэти, это еще одна попытка разыскать тебя, хоть, видит бог, она кажется мне безнадежной после стольких других, оказавшихся тщетными. Но я должен сделать это как можно спокойнее, потому что, если я начну говорить тебе о своих чувствах, этому не будет конца и ты никогда не прочтешь моего письма.
Последнее письмо, которое я получил от тебя, написанное карандашом с швейцарско-австрийской границы, было отправлено из Швейцарии твоим знакомым. Ты пишешь в нем, что твой отец был арестован по подозрению в симпатии к русским, а ты задержана австрийской пограничной охраной при попытке добраться до Лондона. Это письмо пришло с большим опозданием, я получил его 10 августа 1914 года. Мы строили с тобой совсем другие планы на этот день, не правда ли? Но об этом я не должен думать.
В это время мы уже почти неделю были на положении войны, и всюду царило смятение. Я пытался телеграфировать тебе и писал несколько раз, но не получил никакого ответа. Позднее, находясь уже в действующей армии, я пытался связаться с тобой через посредство комитета помощи военнопленным в Швейцарии, но из этого ничего не вышло. Я написал тебе на другой день после заключения перемирия, но полевая почта вернула мне письмо. Потом я писал тебе три раза из Кельна и отправлял письма через городской почтамт, — но там, разумеется, они проходили через цензуру, как и теперь. Я пробовал получить разрешение на въезд в Австрию, но мне сказали, что на это потребуется особое разрешение военного министерства. Получить его я не смог. Я был беден, и никто меня не знал.
По-видимому, мои письма пропали, так же как и твои. С самого начала войны моим отцом овладело какое-то беспокойство, он переменил в Лондоне три квартиры и два раза уезжал в деревню. Я не думал, чтобы он мог уничтожить какое-нибудь письмо от тебя, как бы он ни был против нашего грандиозного, застрахованного от всяких случайностей плана. Но я боюсь, что если даже какое-нибудь твое письмо и попало в Англию, его могли не доставить из-за моих беспорядочных переездов, и, конечно, у тебя есть только мой довоенный адрес, как и у меня — твой. Я ходил на центральный почтамт, но у них не хватает людей, они завалены работой и от них ничего не добьешься — во всяком случае, они ничего не нашли. Я заходил и на старую квартиру. Теперешние жильцы живут там всего год и не помнят, чтобы было какое-нибудь письмо на мое имя, мои расспросы их почему-то раздражали, и, хотя они обещали переслать все, что для меня будет, видно было, что им, в сущности, на это наплевать, и они просто хотят от меня отделаться.
Все это я пишу для того, чтобы показать тебе: я сделал все, что мог. Я до сих пор не могу получить разрешения поехать в Австрию, но когда-нибудь эти пресловутые мирные переговоры, надо полагать, кончатся, тогда я попытаюсь еще раз. Я собираюсь вскоре съездить в деревню, повидать старика Скропа (я тебе рассказывал о нем) и узнать, не может ли он помочь мне получить визу на въезд в Австрию. До тех пор остается только мучиться и терзаться. Я стал какой-то беспокойный и чувствую себя всегда подавленным, у меня вошло в привычку говорить со всеми напрямик, что, по-видимому, не нравится людям. Отец, который трогательно верит во всякое псевдонаучное вранье, настоял, чтобы я обратился к врачу. Этот торгаш с Гарлей-стрит оказался довольно добродушным малым, он пощупал пульс, постучал, послушал меня, задал кучу никчемных вопросов, потребовал анализ мочи, и, наконец, объявил, что у меня заторможенный шок; он советует мне хорошенько отдохнуть, побольше развлекаться и смотреть на жизнь повеселее. Я сказал ему, что был бы не прочь отдохнуть, будь у меня деньги, но я ненавижу развлечения, и, если он способен научить меня смотреть весело на жизнь, я с удовольствием последую его совету. Вслед за этим он прочитал мне длинное наставление, и я ушел от него с тем же запасом мудрости и здоровья, с каким пришел.
Как все запуталось и кто приведет все это в порядок? Да, кто, в самом деле! Веришь ли ты по-прежнему в государственную честность и доброжелательность? А мне кажется, если бы не различные притязания различных» государств «, ты и я — мы были бы счастливы. По-моему, современное государство — это просто усовершенствованная разновидность разбойника с большой дороги. Оно требует у вас кошелек и жизнь. Ты видишь, что в этом по крайней мере я не изменился. Я отказываюсь принимать участие в» совместной жизни» убийц, грабителей и прирожденных идиотов. Я ненавижу британское государство так же, как ненавижу газеты. Мерзость, мерзость, мерзость! Покажите мне истинную общественную жизнь, и я с радостью приобщусь к ней. Все, что я прошу от государства, это отдать мне тебя и оставить в покое. По-видимому, это слишком много. Я хотел бы, чтобы мы могли переселиться с тобой в другой мир, такой же прекрасный, как и этот, но населенный человеческими существами, а не жестокими, алчными обезьянами.
Теперь я подхожу к самой трудной части своего письма; этого вообще нельзя было бы написать никакой другой женщине, кроме тебя. Но я сохраняю все то же чувство веры в тебя и в твою любовь, какое было у меня на Эа. Я уже сказал тебе, что Это письмо должно быть спокойным, поэтому прости, если я покажусь тебе слишком хладнокровным. Во Время войны у меня была любовная связь с Маргарит. Не буду оправдываться тем, что это случилось после Пасчендейла. Я был в отчаянии, знал, что возвращаюсь на позиции, и думал, что непременно буду убит, и Маргарит была в том странном возбужденном состоянии, при котором солдат, вырвавшийся из окопов, кажется почему-то необыкновенно желанным. Это было дурно с моей стороны. И я не увиливаю, говоря, что мое чувство к тебе ничуть не изменилось бы, если бы ты поступила так же. Это просто не имеет никакого значения. Да и как может это иметь какое-либо значение, если только мы снова найдем друг друга. Если только!
Но пока что положение мое не из приятных. Во время войны на эти вещи смотрели легко, сходились на один день, а на другой расставались и забывали, но сейчас с этим кончено, и прежнее ханжество опять входит в силу. Маргарит хочет женить меня на себе и сумела привлечь на свою сторону моего отца. Я не сдаюсь — во всяком случае, пока еще есть хоть какая-нибудь надежда найти тебя. Странно, какими отсталыми кажутся теперь такие люди, как мой отец; когда я говорю с ним, у меня такое чувство, как будто я стараюсь растолковать что-то упрямому и неразумному ребенку. Он разглагольствует о долге честного человека. Как будто честно связывать себя с другим только ради того, чтобы соблюсти какие-то установленные правила и светский декорум. Здесь опять вылезают те же бессмысленные устои «государства». Подлинная человеческая правда в том, что нехорошо связывать людей, когда они не хотят этого, и нехорошо разлучать их, когда они стремятся быть вместе. Я, наверное, в некотором смысле нужен Маргарит, но самое главное — то, что она вбила себе в голову, будто никто теперь на ней не женится и я должен «исправить зло». Но поскольку мы тогда оба думали, что меня ждет деревянный крест, я не вижу, в чем же тут собственно зло. Или она намеревалась в том случае, если бы я со многими другими лучшими людьми отправился на тот свет, разыгрывать из себя солдатскую вдову?
Ты, может быть, заметила, дорогая, что истинно добродетельные люди ведут себя крайне бесцеремонно, особенно в денежных делах, когда им приходится иметь дело с грешниками. Так вот, я — грешник, а Маргарит и мой отец «добродетельные».
У отца во время войны пропала какая-то часть денег (сколько — я точно не знаю). Теперь он требует, чтобы я жил с ним или женился на Маргарит.
Я сейчас не выношу присутствия других людей — мне нужно быть одному или с тобой.
Перед тобой я могу обнажить свои раны, а больше ни перед кем. (Я сейчас не совсем в себе, и только ты одна можешь меня вылечить.) Так как я отказался подчиниться требованиям отца, он заявил, что не может давать мне денег, хотя как-то однажды, забывшись, пообещал мне шесть тысяч фунтов стерлингов, если я женюсь на Маргарит.
Я просил его дать мне треть этой суммы, чтобы попытаться отыскать тебя. Он сказал «эту австриячку» таким тоном, как если бы произнес: «эту змею».
Я стараюсь убедить его, что вся эта националистическая рознь — ерунда, что всех нас запугивают громкими словами для обогащения своры мерзавцев и удовлетворения жажды власти кучки стариков и старух с садистскими наклонностями. Но он и слушать не хочет. Он готов дать мне денег, чтобы я женился на женщине, которая мне не нужна, и отказывает мне в ничтожной сумме, чтобы я мог найти ту, которая мне нужна. Замечательно! А с тысячей фунтов, подкупив кого надо, я сумел бы добраться до Вены.
У меня нет ничего, кроме, как говорят солдаты, «кровных» денег, которые нам платят за то, что проливали кровь. Я отложил из них 75 фунтов, чтобы поехать в Вену, как только это станет возможным.
В понедельник поступаю на службу, на какую-то несчастную должность писца, но это даст мне 4 фунта в неделю, так что я смогу сохранить эти 75 фунтов в неприкосновенности. В субботу я еду к Скропу (попытаюсь раздобыть визу), и, если мне удастся получить ее, разумеется, я тотчас же брошу эту проклятую контору. Только бы разыскать тебя! Мы бы с тобой уехали из этой несчастной Европы. А куда? Я думаю, в Южную Америку. Там живут, слава богу, не белобрысые северяне, и они не принимали участия в войне. Природа там чудесная, хотя и больно кусаются насекомые. Но пусть меня лучше жалят насекомые, чем гады из рода человеческого.
Так или иначе, главное — это найти друг друга, — все остальное наладится потом.
Пишу тебе это письмо после небольшого поединка с самим собой. Я дошел до такого состояния, что у меня возникла мысль: а стоит ли дальше мучиться? Но я взял себя в руки и решил начать все снова. Я буду служить в этой конторе, пока не получу визы и попытаюсь разыскать кой-кого из своих прежних знакомых, с которыми был когда-то близок, а также завязать знакомства с новыми людьми.
Это, вероятно, будет нелегко, но я постараюсь. Я и сейчас пытаюсь не огорчаться, думая о том, как легко все можно было бы уладить, если бы я был богат и имел влиятельных друзей.
Ответь на эхо письмо, если можешь. Если нет — не теряй надежды. Я даже не прошу у тебя прощения за то, что в этом письме нет ни слова о любви, — ты знаешь, что я ничего не забыл.
Всегда, всегда, дорогая Кэти.
Тони».