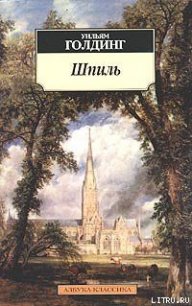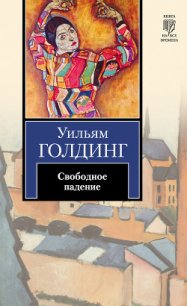Бумажные людишки - Голдинг Уильям (книги бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Я тут пытаюсь шутить, чего не следовало бы делать, но можете мне поверить, ничего смешного здесь не было. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Помню один вечер… нет. Это уже отдельный клип.
Однажды вечером, когда боль была терпимой и я мог видеть небо, я сидел на балконе и пытался обдумать происходящее. Утром я обнаружил, что брожу по Риму, потому что хотел посмотреть в «Кто есть кто в Америке» сведения о Холидее. Наконец я снова очутился у подножия лестницы. Она кишела прогуливающими уроки школьниками, торговцами наркотиками, хиппи, проститутками, панками, гомиками, лесбиянками и студентами, как обычно, и все они держали гитары, отвратительно играли на них, пытались продавать вырезанные из жести и разбросанные повсюду сувениры в виде цепочек, колец на палец или в нос или сережек, лестница была усеяна искусственными цветами и так далее. Протолкаться через эту толпу стоило немалого труда, но никто ко мне не приставал и не пытался всучить разный мусор — видимо, я не производил впечатления платежеспособного. Но, присматриваясь к ним, я понял, какой у меня должен быть ужасный вид, поэтому я поднялся на свой балкон, обхватил голову руками и попытался думать. Я решил перечитать дневник, чтобы разобраться что к чему. Тут я, конечно, вспомнил, что дневника-то нет; передо мной предстал кадр (клип), как я сижу здесь, а в Швейцарии и Италии я вел записи в телефонных книгах, на обоях, на стеклах машин или на туалетной бумаге, а потом отправлялся дальше без всякой цели. А еще я вспомнил, как утром смотрел «Кто есть кто в Америке», — как же я сразу не понял зловещего предзнаменования? Ведь страница, на которой полагалось быть Холидею, оказалась пустой — голой, голой, голой, просто листом белой бумаги! Тут я вскочил на ноги, как бы они ни болели, и уставился на ту церковь с дерьмовыми витражами — Господи, он там и стоял, на крыше. Да, стоял, и я стремглав бросился в комнату, сел на кровать, весь пылающий, и принялся дрожать мелкой дрожью. Я понял, что спать нельзя — если я усну, он спустится с церковного шпиля и заберет меня. И конечно, снотворное и выпивка исключены — то и другое сделает меня беспомощным, и я не смогу сопротивляться, если он все же явится за мной. Это последнее соображение вообще спутало все на свете. Не знаю, сколько времени я так сидел и дрожал. Какая-то женщина зашла убрать постель, но я на ней сидел и она не была разобрана, поэтому горничная ушла; потом явился мужчина, но он был из отеля, а не с церковного шпиля, поэтому я не испугался и игнорировал его. На войне у меня был нарыв, ужасное последствие раны, и он нарывал и нарывал, пока не настало время — примерно полчаса — когда биение сердца так сильно прижимало гной к коже, что я от боли потерял сознание. Помню, я не мог поверить, что боль способна еще усилиться, но так было. Но напряжение нарастало, оно давило и давило. Думаю, я все же уснул или впал в состояние, которое нельзя назвать бодрствованием, или же просто сошел с ума.
Можете назвать это бредом.
Я стоял на крыше церкви, там, где раньше был Холидей. И смотрел на лестницу внизу. Все было залито солнцем — не тяжелым римским светом, а всепроникающим сиянием. Раньше я этого не замечал, но сейчас, глядя сверху, обнаружил, что лестница повторяет симметричный изгиб музыкального инструмента — гитары, скрипки, виолончели. Но эту гармоничную форму украшали и разбивали люди, цветы и сияние бриллиантов, разбросанных повсюду на ступеньках. Все люди были молоды и похожи на цветы. Оказалось, он все-таки стоит рядом со мной на крыше; мы вместе спустились и оказались среди молодежи, и бриллиантов, и охапок цветов, изливавших потоки света. Затем началась музыка. Они протягивали руки и двигались, и это движение было музыкой. Они не были ни мужчинами, ни женщинами, а тем и другим сразу, и это не имело ни малейшего значения. Важна была сама музыка. Мужское и женское начало для меня не имеет значения, сказал он, беря меня за руку и отводя в сторону. Узкие ступени вели вниз, к круглой двери. Мы вошли. За ней оказалось, по-моему, темное, недвижное море, поскольку я мог говорить только метафорами. Пение я не могу описать словами.
Проснувшись, я не пел, а плакал; правильнее будет сказать — рыдал, и очень долго. Верите или нет, после пробуждения я был пьянее, чем когда уснул, а слезы текли так обильно, что я осмотрел кровать, решив, что описался, но этого не было. Подушка была вся в слезах, точно так, как пишут в женских романах. Как бы там ни было, нарыв прорвал, боль и напряжение исчезли, потому что я теперь знал, куда мне нужно, вернее, знал направление, к которому следует стать лицом и больше не бежать. Я мог спокойно идти, и последний отрезок путешествия сложится сам собой. В дверь постучала женщина, принесла кофе с круассанами и бутылку вина. Когда она вошла, я смеялся, что удивило ее, но я не мог объяснить, чему смеюсь. Она бы все равно не поверила. Но невыносимая боль в руках и ногах действительно исчезла. То есть они еще болели, но, словно после мази, боль утихала. Не думаю, что существует научное объяснение, хотя, если вы ученый, может, вы и сумеете что-то придумать, но я не занимаюсь абстракциями вроде религии или науки, я описываю жизнь, как она есть, как говорят немцы, Istigkeit — естие, если можно так сказать. Описываю, что такое быть человеком, хотя, цитирую, простой человек, а с хитринкой, конец цитаты. Кроме того, боль в руках и ногах была какой-то странной, будто я ушиб целых четыре локтя.
Этот день я провел в халате и пижаме, затребовав то и другое, когда обнаружил, что в моем багаже ничего нет. Следующие несколько дней в отеле ушли на портных и им подобных. Я также начал разбирать мешки с почтой, и первое письмо, которое я вскрыл, оказалось от Лиз. Излагаю его содержание. Смысл сводился к тому, что Валет Бауэрс смылся. У меня вся злость давно прошла, думаю, и у тебя тоже. Почему бы тебе не вернуться? Прочтя это, я немедленно отправил телеграмму «да, но несколько дней буду приводить себя в порядок». Я сидел на краю ванны, ноги в воде, руки под краном, а портной сидел на унитазе, и мы беседовали о жизни и сопутствующих предметах. Прошло еще немало дней, пока я полностью примирился с жизнью. Не будешь ее принимать как есть — она тебя быстро свалит с ног. Вот я и проводил дни в беседах с портными, сапожниками, рубашечниками, шляпниками и ювелирами — людьми самых доброжелательных профессий. Я потребовал амбарную книгу для дневника, но когда попробовал заполнять ее той ясной прозой, какую читатели находят в моих книгах, в руке начиналась ужасная боль, и пришлось отказаться от этих попыток. Вот тогда все наконец начало сходиться. Я понял, что нетерпимость не одолела меня и что остается книга, которую я или кто-то другой должен написать — не дневник, а нечто более существенное.
Как все это время говорил гипнотизер, я идеально поддаюсь внушению. Я увидел, как внушение изменило мои книги, особенно «Хищных птиц» и «Лошадей весной». Я много плакал и устыдился, что эти книги не вполне приспособлены к юдоли слез. Я, конечно, еще пил, потому что считал мгновенное расставание с бутылкой чересчур опасным, но теперь более или менее строго придерживался нормы — бутылка в день, не больше.
Настало время, когда я начал подумывать о моем песике. Нехорошо будет сразу привести его в дом, пока я не выясню, как на это посмотрят Лиз и Эмми. Лучше встречусь с ним в самом роскошном из моих клубов — «Ахинеуме». Я подумал, что о Рике стоит поговорить с Лиз. Я уже представлял, как мы сидим по разные стороны кухонного стола, за которым у нас бывали такие прекрасные беседы и такие яростные ссоры.
Странное было это время в отеле! Я сидел на балконе, глядя на этот город цвета коровьего навоза, ровесник вечности, и пытаясь понять, почему мой бред был больше, чем бредом, и больше, чем явью. Потом обдумывал новую книгу, выстраивая сюжет из мешанины фактов. Учитывая, кому она предназначалась, я мечтал, как перестанут болеть мои несчастные ноги и руки, когда я закончу писать. Потом я возвращался в ванную с бутылкой на подносе. А там сидел на крышке унитаза сапожник со стаканом в руке и рассказывал удивительные истории о своих клиентах, а я откладывал эту информацию в ящички памяти, совершенно забывая, что она мне не потребуется. То и дело я возвращался в мыслях к собственному бреду. Я немного продвинулся и пытался объяснять его в категориях, скажем, научных, психиатрических, религиозных и в категориях естия (последнее от рубашечника), совершенно взаимоисключающих — так по крайней мере мне казалось. Больше всего я размышлял о естии. Почему такой упор на естие? — спросите вы. Вы что, приперты к стенке? — спросите вы. Разве — цитирую — реальности — конец цитаты — вам мало? Так вот, ответ лежит в глубинах языка. Вовсе не философское понятие реальности, а — цитирую — естие — конец цитаты — именно то слово из темных слоев лексики, которое обозначает недобровольное сознание. Я сам его придумал, потому что бред постиг не философа, а меня. Религия, наука, психиатрия, философия — все они охватываются этим словом!