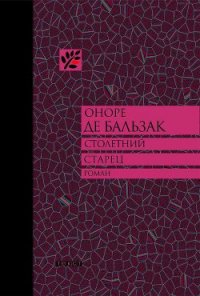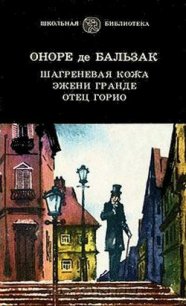Воспоминания двух юных жен - де Бальзак Оноре (бесплатные версии книг .TXT) 📗
XL
От графини де л'Эсторад к баронессе де Макюмер
Мой отец выбран депутатом, мой свекор умер, а я снова в тягости — вот главные события, ознаменовавшие конец прошлого года. Говорю тебе все сразу, чтобы поскорее рассеять мрачное впечатление от траурной печати на письме.
Душенька моя, письмо, которое ты написала мне из Рима, ужаснуло меня. Вы оба как дети. Фелипе либо дипломатично притворяется, либо любит тебя как куртизанку, на которую тратят состояние, хотя и знают, что она неверна. Но довольно об этом. Раз вы почитаете мои советы вздорной болтовней, я буду молчать. Но позволь сказать тебе, что, размышляя о наших с тобой судьбах, я вывела жестокое правило: хотите быть любимой? не любите.
Дорогая моя, три года назад Луи стал членом генерального совета и кавалером ордена Почетного легиона. Нынче мой отец, которого ты, вероятно, увидишь в Париже во время сессии, попросил произвести зятя в офицеры этого ордена, так вот, сделай милость — порадей об этом пустяке и поговори насчет Луи с каким-нибудь мамамуши. Главное, не вздумай помогать моему почтеннейшему батюшке, графу де Мокомбу, который мечтает о титуле маркиза; побереги свои благодеяния для меня. Когда Луи станет депутатом, а это произойдет будущей зимой, мы приедем в Париж и тут уж пустим в ход все средства, чтобы получить доходное место, которое позволит нам жить на его жалованье и копить доходы с наших поместий. Мой отец сочувствует правым и центру, ему нужен только титул; род наш знаменит со времен короля Рене [96], и Карл X вряд ли откажет дворянину, носящему имя Мокомб, но я боюсь, как бы отцу не вздумалось просить о какой-нибудь милости для моего младшего брата, а пока он хлопочет о титуле маркиза, ему не до родственников.
Ах, Луиза, я словно побывала в аду! Если у меня хватает смелости говорить с тобой о моих страданиях, то только потому, что ты для меня — мое второе «я». Не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь мысленно вернуться к этим роковым пяти дням! Меня охватывает дрожь при одном только слове «судороги». Миновало не пять дней, а пять мучительных столетий. Пока мать не пройдет через эту пытку, она не знает, что такое страдание. Мне казалось счастьем не иметь детей, и я завидовала тебе — вот до какого безумия я дошла!
Накануне страшного дня было душно и, пожалуй, даже жарко; мне казалось, что эта погода не на пользу малышу. Он, обыкновенно такой тихий и ласковый, куксился, капризничал, начинал играть и тут же ломал свои игрушки. Быть может, все болезни у детей начинаются с того, что у них портится настроение. Я обратила внимание на странное ожесточение Армана, заметила, что личико у него покрылось красными пятнами, но приписала все неприятности тому, что у бедняжки режутся сразу четыре коренных зуба. Поэтому я уложила его спать подле себя и то и дело просыпалась, чтобы взглянуть на него. Ночью его слегка лихорадило, но меня это не обеспокоило; я по-прежнему считала, что все дело в зубках. Под утро он сказал «мама» и жестом попросил пить, причем голос у него был такой пронзительный, движения такие резкие, что я вся похолодела. Я вскочила с постели и приготовила ему сладкое питье. Представь себе мой ужас, когда я протянула ему чашку, а он даже не пошевельнулся и все повторял «мама, мама» каким-то чужим голосом, вообще не похожим на человеческий. Я взяла его за ручку, но она не слушалась, не сгибалась. Тогда я поднесла ему чашку к губам; бедный малыш сделал два или три судорожных глотка, вода страшно заклокотала у него в горле. Наконец он отчаянно вцепился в меня, и я увидела, как глаза его, словно под действием какой-то внутренней силы, закатились, члены одеревенели. Я страшно закричала. Прибежал Луи. «Доктора! Доктора! Он умирает!» — крикнула я. Луи помчался за доктором, а бедный Арман, цепляясь за меня, опять повторил: «Мама! Мама!» То был последний миг, когда он понимал, что мать рядом с ним. Тоненькие жилки у него на лбу вздулись, и его свело судорогой. Целый час до приезда докторов я держала Армана на руках. Этот полный жизни бело-розовый малыш, этот цветок, радость моя и гордость, окоченел и стал, как деревяшка. А глаза! когда я вспоминаю их, у меня мороз идет по коже. Почерневший, скорчившийся, судорожно вцепившийся в меня, мой милый Арман не издавал ни звука и походил на мумию. Доктор, вернее, два доктора, которых Луи привез из Марселя, кружили вокруг моего мальчика, как зловещие птицы, приводя меня в трепет. Один говорил, что у него воспаление мозга, другой считал, что это обычные детские судороги. Наш местный доктор показался мне умнее всех, потому что не говорил ничего. «Это воспаление», — твердил первый. «Это зубы», — уверял второй. Наконец они сошлись на том, чтобы поставить ему на шейку пиявки и положить на лобик лед. Я думала, что умру. Быть рядом, видеть синевато-черный труп, онемелый и неподвижный, вместо шумного и резвого мальчика! Когда в нежную шейку, которую я столько целовала, впились пиявки, а на очаровательную головку водрузили пузырь со льдом, в голове у меня помутилось, и я нервно захохотала. Чтобы положить лед, пришлось остричь его чудесные волосы, которыми мы так любовались и которые ты гладила. Судороги повторялись каждые десять минут, как родовые схватки, и бедный малыш корчился, то бледнея, то синея. Его ручки и ножки, прежде такие пухлые, стукались друг об друга, как деревяшки. Еще недавно это бесчувственное тельце улыбалось, лепетало, называло меня мамой. Стоило мне вспомнить об этом, и нечеловеческое страдание обрушивалось на мою душу, как шторм обрушивается на море; я физически чувствовала все узы, связующие мое сердце с сыном. Матушка моя, которая могла бы мне помочь, дать совет или утешить, была в отъезде. Наверное, матери лучше разбираются в судорогах, чем доктора. Четыре дня и четыре ночи мы провели между жизнью и смертью, и вот, когда я сама была уже чуть жива, доктора решили прибегнуть к ужасной разъедающей кожу мази! О! язвы на теле моего маленького Армана, который пять дней назад играл, улыбался, пытался выговорить «крестная»! Я отказалась, я предпочла положиться на природу. Луи бранил меня, он верил докторам. Мужчина есть мужчина. Но в этой страшной болезни бывают минуты, когда ребенок кажется мертвым; в одну из таких минут средство, вызывавшее у меня отвращение, представилось мне спасением. Милая моя Луиза, кожа его стала такой сухой, такой шершавой, такой грубой, что мазь не подействовала. Я зарыдала и рыдала так долго, что все изголовье кроватки стало мокрым от моих слез. А доктора тем временем обедали! Оставшись одна, я отбросила прочь все снадобья, как безумная схватила Армана на руки, прижала к груди и прижалась лбом к его лобику, моля Бога отдать малышу мою жизнь и пытаясь вдохнуть в него силы. Так я продержала его несколько мгновений, готовая умереть, лишь бы не разлучаться с ним ни в жизни, ни в смерти. И вдруг я почувствовала, как члены его помягчели, судорога отпустила моего малыша, он зашевелился, щечки его порозовели! Я закричала, как тогда, когда он заболел, явились доктора, я показала им Армана.
«Он спасен!» [97] — воскликнул старший из докторов.
Ах! какие слова! в них звучала райская музыка! И правда, через два часа Арман ожил, но я совершенно обессилела, и только бальзам радости уберег меня от болезни. Господи! какими страданиями привязываешь ты дитя к матери! какими гвоздями вбиваешь любовь к нему нам в сердце! Разве не была я преданной матерью, я, плакавшая от радости, когда мое дитя начало лепетать и сделало первые шаги, я, часами наблюдавшая за ним, дабы лучше исполнять сладостные материнские обязанности! Зачем было обрушивать на меня все эти ужасы, зачем являть столь страшные картины мне, которая поклоняется ребенку как божеству? Сейчас, когда я пишу тебе, наш Арман играет, кричит, смеется. Я все время пытаюсь отыскать причину этой ужасной детской болезни — ведь я снова жду ребенка. В чем тут дело? В режущихся зубках или в особой работе, совершающейся в мозгу? Быть может, судороги указывают на несовершенство нервной системы ребенка? Все это тревожит меня сейчас и внушает тревогу за будущее. Наш деревенский доктор считает, что всему виной нервное возбуждение, вызванное прорезыванием зубов. Я отдала бы все свои зубы, чтобы зубки нашего малыша уже прорезались. Когда я вижу, как из его воспаленной десны показывается белая жемчужинка, меня прошибает холодный пот. Судя по ангельскому терпению, с каким мой мальчик переносит страдания, у него будет мой характер; он молчит и только бросает на меня взгляды, которые разрывают мне сердце. Медицина почти ничего не знает о причинах этих столбняков, которые внезапно начинаются и так же внезапно проходят, — их невозможно ни предвидеть, ни облегчить. Повторяю, мне ясно лишь одно: видеть свое дитя в конвульсиях — сущий ад для матери! С каким жаром я его целую! Как подолгу ношу на руках! Через полтора месяца я должна родить, и я страдала вдвойне: мне было страшно и за будущего ребенка! До свидания, дорогая моя, любимая Луиза, не мечтай о детях, вот мое последнее слово.
96
Рене — Король Рене I, по прозвищу Добрый (1409—1480), герцог Анжуйский и граф Прованский с 1434 г., меценат и инициатор многих благотворных реформ в своих владениях.
97
«Он спасен!» — Описание болезни ребенка, ее возможных причин (режущиеся зубки) и лечения соответствует медицинским справочникам бальзаковского времени (см.: Le Yaouanc M. Nosographie de l'humanite balzacienne. P., 1959. P. 443—446). Финал же — исцеление малыша благодаря духовному порыву матери — основан на вере самого Бальзака во всесилие человеческой воли.