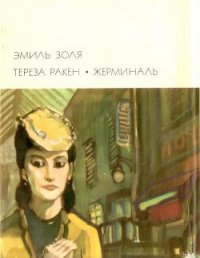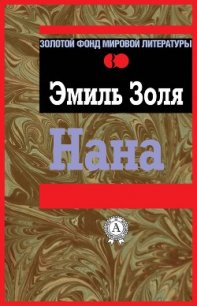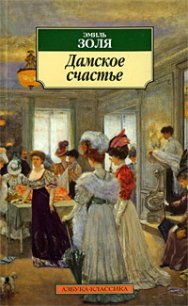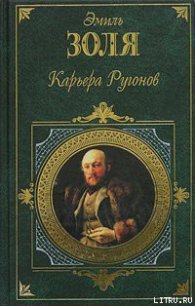Тереза Ракен - Золя Эмиль (читать книги полностью .txt) 📗
Они ясно сознавали, что только усиливают свои страдания. Они изнуряли себя в страшных объятиях, они кричали от боли, они обжигали и терзали друг друга, но не в силах были укротить взбунтовавшиеся нервы. Каждое объятие только усиливало их отвращение. Они покрывали друг друга страшными поцелуями и в то же время становились жертвами жутких галлюцинаций; им казалось, что утопленник тащит их за ноги и трясет кровать.
На минуту они выпустили друг друга из объятий. Ими овладевало омерзение, какое-то непреодолимое нервное возмущение. Потом они решили, что надо побороть его; они вновь обнялись, но опять вынуждены были выпустить друг друга, словно тела их пронзало какое-то раскаленное острие. Так они несколько раз пытались подавить в себе отвращение и забыться, утомив, истерзав нервы. Но нервы каждый раз возбуждались и напрягались, доводя их до такого отчаяния, что они, пожалуй, умерли бы от изнеможения, если бы не вырвались из взаимных объятий. Борьба с собственной плотью доводила их до бешенства; они упрямились, они хотели во что бы то ни стало восторжествовать. Наконец еще более резкий припадок одолел их; они получили удар такой неимоверной силы, что подумали, не начинается ли у них падучая.
Отпрянув к краям постели, пылающие и еле живые, они разрыдались.
И сквозь эти рыдания им послышался торжествующий хохот утопленника; потом он, хихикая, снова стал пробираться под одеяло. Изгнать его им не удалось; победил он. Камилл тихонько лег между ними; Лоран плакал от сознания своего бессилия, а Тереза вся тряслась, опасаясь, как бы трупу не вздумалось воспользоваться своей победой и на правах законного властелина обнять ее разложившимися руками. В ту ночь убийцы предприняли последнюю попытку; теперь, перед лицом своего поражения, они поняли, что отныне не решатся даже на целомудренный поцелуй. Судороги безумной любви, которую они попытались оживить, чтобы преодолеть свои страхи, только глубже погрузили их в ужас. Ощущая холод, исходящий от трупа, который отныне должен навеки разлучить их, они плакали кровавыми слезами и с отчаянием думали: что же будет с ними дальше?
XXIV
Как и рассчитывал старик Мишо, когда старался устроить брак Терезы и Лорана, четверговые собрания сразу же после свадьбы стали оживленными, как прежде. После смерти Камилла эти собрания оказались под угрозой. Пока семья была в трауре, завсегдатаи заглядывали сюда с опаской; каждый раз они боялись, как бы им окончательно не отказали от дома. Мысль о том, что дверь лавочки в конце концов закроется перед ними, приводила Мишо и Гриве в ужас, ибо они придерживались своих привычек инстинктивно и упрямо, как животные. Они думали, что старуха мать и молодая вдова в один прекрасный день уедут в Вернон или еще куда-нибудь, чтобы там оплакивать усопшего, а друзья их в один из четвергов останутся на улице, не зная, что предпринять; они уже представляли себе, как они печально бредут по пассажу, мечтая о грандиозных партиях в домино. В ожидании этих черных дней они робко наслаждались последними радостями, они являлись в лавку встревоженные и заискивающие и каждый раз думали, что, быть может, не придут сюда больше никогда. Целый год они жили в страхе, не осмеливаясь дать себе волю и смеяться в присутствии заплаканной г-жи Ракен и безмолвной Терезы. Им было тут не по себе, не то что во времена Камилла; они словно крали каждый вечер, который проводили за столом Ракенов. Вот в этих-то безнадежных обстоятельствах эгоизм старика Мишо и подсказал ему гениальную мысль выдать вдову утопленника замуж.
В первый же четверг после свадьбы Гриве и Мишо явились в пассаж как победители. Они торжествовали. Столовая Ракенов снова стала их достоянием, они уже не боялись, что их прогонят. Они вошли как люди счастливые, перестали стесняться, выложили одну за другой все свои прежние шуточки. Их блаженный и доверчивый вид красноречиво говорил о том, что для них совершилась целая революция. Память о Камилле сгинула. Покойный муж, — призрак, обдававший их холодом, — был изгнан мужем здравствующим. Прошлое возрождалось со всеми его радостями. Лоран заменил Камилла, никаких поводов для печали не осталось, гости могли балагурить, никого не огорчая, и даже обязаны были балагурить, чтобы развлекать почтенное семейство в благодарность за оказываемое им гостеприимство. С тех пор Гриве и Мишо, полтора года приходившие под предлогом утешить г-жу Ракен, получили возможность отложить свое маленькое лицемерие в сторону и приходить, чтобы открыто вздремнуть друг против друга под сухое постукивание костяшек домино.
И каждая неделя приносила с собою четверг, каждый четверг объединял вечером вокруг стола эти мертвые, уродливые головы, некогда приводившие Терезу в отчаяние. Молодая женщина заикнулась было о том, чтобы выставить всех их за дверь, — они раздражали ее своим дурацким хохотом, своими идиотскими рассуждениями. Но Аоран разъяснил ей, что это было бы ошибкой; надо, чтобы настоящее как можно больше походило на прошлое; в особенности надо сохранить расположение полиции, расположение этих дураков, которые отводят от них малейшее подозрение. Тереза подчинилась, гости встречали хороший прием и с полным удовольствием предвидели в будущем длинную вереницу приятных вечеров.
К этому времени жизнь супругов как бы раздвоилась.
По утрам рассвет разгонял ночные страхи, и Лоран торопливо одевался. Эгоистический покой и нормальное самочувствие возвращались к нему только в столовой, когда он усаживался перед огромной чашкой кофе с молоком, приготовленного ему Терезой. Расслабленная г-жа Ракен, у которой еле хватало сил спуститься вниз, в магазин, с материнским умилением наблюдала, как он ест. Он пожирал поджаренные сухарики, наедался по горло и понемногу приходил в себя. После кофе он выпивал рюмочку коньяку. Это окончательно восстанавливало его душевное равновесие. Он говорил г-же Ракен и Терезе: «До вечера», но никогда не целовал их; потом, не торопясь, шел на службу. Начиналась весна; деревья на набережной одевались листвой — легким бледно-зеленым кружевом. Внизу, ласково журча, текла Сена; с небес лилось тепло первых солнечных лучей. Лоран чувствовал, что оживает от свежего воздуха; он глубоко вдыхал в себя дуновение юной жизни, которым веяло от апрельского и майского неба; он ловил солнечные лучи, останавливался, чтобы посмотреть на серебряные блики, пестревшие на реке, прислушивался к шуму набережных, упивался острыми утренними ароматами, стараясь всеми органами чувств насладиться ясным, счастливым зарождающимся днем. О Камилле он, конечно, не думал; иной раз взгляд его машинально обращался к моргу на другом берегу Сены; тогда он вспоминал об утопленнике, как мужественный человек вспоминает о пережитом нелепом страхе. Набив себе желудок, освежив лицо, он обретал обычное тупое спокойствие, являлся в контору и проводил там день, зевая в ожидании конца занятий. Он становился тут чиновником, таким же, как и все остальные, — отупевшим, скучающим, с пустой головой. Единственной мыслью, занимавшей его, была мысль подать в отставку и снять мастерскую; в его воображении туманно рисовалась жизнь, посвященная безделью, какою он жил некогда, и мечты о ней занимали его до самого вечера. Лавка никогда не вспоминалась ему и не смущала его мечтаний. Весь день он ждал часа, когда кончатся занятия, но когда час этот наставал, он уходил из конторы с сожалением и вновь брел по набережным с глухой тревогой и тоской в душе. Как бы медленно он ни шел, в конце концов все-таки приходилось вернуться в лавку. А здесь его поджидал страх.
То же самое переживала и Тереза. Пока Лорана не было возле нее, она чувствовала себя сносно. Она уволила прислугу, утверждая, что та развела грязь и в магазине и в комнатах. Ее обуревала жажда порядка. Истина же заключалась в том, что ей необходимо было двигаться, что-то делать, чем-то занять оцепеневшее тело. Все утро она суетилась, подметала, чистила, убирала комнаты, мыла посуду, не гнушалась и такой работой, которая прежде вызвала бы у нее отвращение. Эти хозяйственные заботы занимали ее до полудня; она работала молча, не покладая рук, и у нее не было времени подумать о чем-либо другом, кроме паутины, свисавшей с потолка, или сала, приставшего к тарелкам. Потом она переходила в кухню и начинала готовить завтрак. За завтраком г-жа Ракен сокрушалась, что Терезе приходится все время вставать из-за стола и самой подавать кушанья; старанья племянницы и трогали и огорчали ее; она бранила Терезу, но та отвечала, что нужно экономить. После завтрака молодая женщина одевалась и наконец шла к тетушке, в магазин. Здесь, за конторкой, ее начинал одолевать сон; измученная бессонными ночами, она дремала, отдаваясь сладостному забытью, которое овладевало ею тотчас же, как только она переставала двигаться. То был не сон, а лишь легкая дрема, успокаивающая нервы и полная смутной неги. Мысль о Камилле отходила прочь; Тереза наслаждалась глубоким покоем, как больной, у которого внезапно затихли боли. Тело ее становилось легким, ум — свободным, она погружалась в какое-то уютное, целительное самозабвение. Не будь этих минут покоя, организм ее не выдержал бы такого нервного напряжения; в них она черпала силы, необходимые для новых страданий, для ужаса следующей ночи. Впрочем, она не засыпала; она только слегка смыкала веки и погружалась в какое-то безмятежное забытье. Когда в лавку входила покупательница, она открывала глаза, отпускала на несколько су товара и снова впадала в зыбкую грезу. Так проводила она часа три-четыре, чувствуя себя вполне счастливой; на вопросы тети она отвечала односложно и с истинным наслаждением отдавалась беспамятству, которое отнимало у нее все силы и избавляло от всяких мыслей. Только изредка бросала она взгляд в окно, выходившее в пассаж, и ей бывало особенно хорошо в хмурую погоду, когда в лавке становилось темно и в сумраке легче было скрывать свою усталость. Сырой, отвратительный пассаж, со снующими взад и вперед жалкими, мокрыми прохожими, с зонтов которых на каменный пол капает вода, казался ей каким-то мрачным закоулком, какой-то грязной зловещей трущобой, где никто не станет разыскивать и тревожить ее. Временами, чувствуя острый запах сырости и мутную мглу, стелющуюся вокруг, она воображала, будто ее заживо похоронили; ей казалось, что она под землей, в общей могиле, среди копошащихся мертвецов. И эта мысль успокаивала, утешала ее; она говорила себе, что теперь она в безопасности, что теперь она умрет, перестанет страдать. Но ей не всегда удавалось сомкнуть глаза: Сюзанна считала своим долгом навещать Терезу и иной раз просиживала возле нее, за вышиванием, целый день. Жена Оливье, ее безжизненное лицо, ее медлительные движения теперь нравились Терезе — при виде этого жалкого, вялого существа она чувствовала какое-то странное облегчение. Тереза подружилась с ней, ей приятно было видеть ее возле себя, и Сюзанна являлась, полуживая, тихо улыбаясь и неся с собою какой-то особенный запах, напоминавший кладбище. Когда ее голубые, прозрачные глаза встречались с глазами Терезы, последняя ощущала некий благодатный холодок, проникавший до мозга костей. Так Тереза дожидалась, когда пробьет четыре часа. Тут она снова уходила в кухню, снова старалась утомить тело, с лихорадочной поспешностью принималась стряпать для Лорана обед. А когда муж появлялся на пороге, горло у нее сжималось, тоска и ужас вновь завладевали всем ее существом.