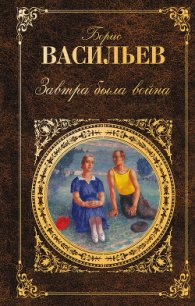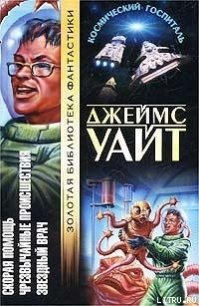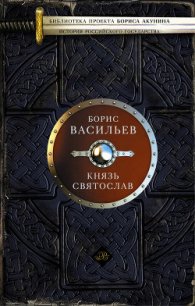Век необычайный - Васильев Борис Львович (читать книги онлайн без сокращений TXT) 📗
Мы осторожно двинулись по лесу, придерживаясь тропинки, как только головной дозор скрылся из глаз.
В лесу было душно и тихо. Здесь попадалась еще незрелая земляника, я рвал ее на ходу и жевал зеленые ягоды вместе с листьями. На каком-то участке оказалось довольно много одуванчиков и подорожника. Одуванчик уже отцветал, листья его стали жесткими, но я все равно собирал их вместе с подорожником, складывал в котелок, мял и присыпал солью. В котелке было немного воды, а я знал, что от соленой воды отходит судорожная горечь листьев одуванчика: этому меня научил еще отец. Все это я проделывал на ходу, не задерживая общего движения и не отставая.
Где-то около полудня пришел сержант из головного дозора:
– Впереди – пшеничное поле, довольно обширное. Тропка в него ныряет, но уж больно открытое место, товарищ лейтенант.
Валентин приказал нам попрятаться и ждать, а сам вместе с сержантом ушел вперед. Я лежал в орешнике, доставал из котелка листья одуванчика вместе с подорожником, отжимал воду и ел эту соленую горечь, тщательно, как учил отец, пережевывая.
Кто-то из ребят, лежащих рядом, заинтересовался, я предложил им, но они, пожевав, с отвращением выплюнули угощение:
– Гадость какая!
Я прожил достаточно длинную жизнь, случалось и голодать, и жить впроголодь, и вкушать заграничные яства в ресторанах и на приемах, и я, как мне кажется, имею право на некий вывод. С моей точки зрения, есть можно все, что ест человек, где бы он ни жил и какую бы веру ни исповедовал. А также то, что, согласно твоим знаниям, не может повредить твоему здоровью. У отца было много подшивок дореволюционного журнала «Природа и люди». Лет до семи я с наслаждением разглядывал картинки и читал подписи к ним, лет с восьми – читал все подряд, а что не понимал, спрашивал у отца. И я глубоко убежден, что внутренние наши запреты, оценки незнакомой, а в особенности иноземной пищи зависят от уровня личной культуры. Помню, как на стрелковом полигоне в Бронницах, где мне пришлось отстреливать бортовую пулеметную спарку калибра 12,7 мм для броневичка ГАЗ-40А, я жил в одной комнате с подполковником-калмыком, испытывавшим на том же полигоне одну из модификаций автомата Калашникова. Это был очень сдержанный немолодой человек, фронтовик в прошлом, хлебнувший лиха вдосталь и строго исповедовавший то ли фронтовое, то ли степное братство. На второй день нашего совместного житья он угостил меня калмыцким чаем. Густым, коричневым, с солью, перцем и бараньим жиром. Поначалу мне это варево не очень понравилось, но уже на следующий день я понял, почему его пьют степняки. Он снимал чувство усталости, заменял суп, а выпивать под него водочку было сплошным удовольствием. Мы балдели на стрельбище от жары, глохли от бесконечной стрельбы настолько, что чесалось в ушах, а калмыцкий чай пился легко, с каждым глотком вливая в тебя силы. Подполковник отстрелялся первым и устроил отвальную для таких же стрелков, как и мы. И сварил калмыцкий чай для закуски. И я опять услышал брезгливое:
– Фу, какая гадость!
Это – вопль уровня культуры. Я ел все незнакомое с острым чувством любопытства. Однажды в Голливуде мы с Будимиром Метальниковым не по своей вине опоздали на частный прием на одной из вилл в Беверли-хиллз. Вошли в пустую гостиную, поскольку хозяева в этот момент показывали гостям свой фильм, снятый ими в Москве. Будимир не впервые был за границей, а потому по-хозяйски прошел за стойку бара, приготовил мне джин с тоником и, обследуя огромную – в полкомнаты – отделанную деревом стойку, обнаружил серебряное ведерко.
– Устрицы. Хочешь?
Тогда я только читал об устрицах, а потому, естественно, хотел. Будимир тут же позвал дворецкого, потребовал тарелок и вилочек и показал мне, как выковыривают саму устрицу из раковины. Я попробовал, устрицы мне понравились, особенно – с лимоном, и я под джин с тоником наковырял этих устриц с полведерка. А мог бы с ними и покончить, если бы не кончился сеанс и в гостиную не вернулись гости вместе с хозяевами. Будимир повинился в самоуправстве, и я услышал общий смех и аплодисменты. По американским приметам если в вашем присутствии кто-то впервые пробует какое-либо блюдо, то присутствующие имеют право загадывать желание.
Морских моллюсков я пробовал и до этого американского вояжа. Когда мы с отцом в 34-м году путешествовали по Крыму, я во время наших остановок в местных деревнях и аулах порой по целым дням пропадал на море то с татарскими, то с греческими парнишками. Они научили меня собирать и есть мидий, и я до сей поры очень их люблю. Так что к устрицам я был подготовлен не только литературой.
А в журнале «Природа и люди» я вычитал, что животный белок вообще не опасен для человеческого здоровья. Попросил отца уточнить это свидетельство, и он мне растолковал, что так оно и есть на самом деле, только не надо пробовать внутренности животных, поскольку в них содержатся ферменты, которые могут оказаться ядовитыми для человеческого желудка. Я не очень разбирался в ферментах, но отцу верил безоговорочно и однажды, когда мы купались, поймал и на его глазах съел живого малька.
– Вкусно? – усмехнулся отец.
– Нет, – сознался я, поморщившись.
– Зато полезно.
Я столь подробно пишу об этом, потому что легче перенес голодовку в окружении, чем многие ребята. Нет, я не был крепче – они были куда посильнее меня, – просто я обладал более высокой степенью культуры. Ведь одно из свойств общечеловеческой культуры и состоит в отсутствии предрассудков. Национальных, религиозных, расовых, семейных, наконец. Кроме того, она дает возможность человеку самому оценивать обстановку и делать выводы на основании этой оценки. О воле как фундаменте культуры я не упоминаю только потому, что в семнадцать лет юношей командуют инстинкты в полной мере своей мощи, но именно об этом – о воле – говорит Шаламов. Он утверждает, казалось бы, невероятную вещь: в нечеловеческих условиях ГУЛАГа процент выжившей интеллигенции существенно превышал все остальные социальные группы заключенных.
Прощения прошу за столь длинное отступление. Вернемся в знойный июль 1941 года.
Далекие взрывы начались раньше, чем вернулись наши командиры. Грохотало где-то впереди, мы притихли и примолкли, вжавшись в землю, и лежали как мыши, пока не вернулся сержант.
– За мной, скрытно. У опушки всем залечь и не двигаться.
Мы перебежали на опушку, укрылись за кустами, и я выглянул.
Передо мною лежало огромное пшеничное поле, переходить которое так опасались наши командиры. И слава Богу, что командирское чутье их не подвело: в селе, которое виднелось за этим полем, шел бой. Слышалась лающая, отрывистая пальба танковых пушек, горели избы, метались люди и скотина. Мне подумалось тогда, что село стоит на большаке, ведущем к Ельне, и что немецкие моторизованные части сейчас захватывают его, громя то ли нашу окруженную часть, то ли передовые заслоны фронта. В последнее очень хотелось верить, но я понимал, что этого не может быть. Что наши войска отброшены на восток, а в этом неизвестном селе умирает сейчас окруженная войсковая часть, сумевшая сохранить и боеспособность, и волю к сопротивлению.
Вероятно, к селу подошли одни танки с мотопехотой, потому что наши еще держались, еще седлали большак, и немцы, ведя огонь из танковых пушек, пока топтались на месте. По всей видимости, они ожидали подхода артиллерии, чтобы смести внезапно возникшую на марше преграду, а у наших, судя по их ответному огню, никакой артиллерии не было вообще. Это была стрелковая часть, лишившаяся своих пушек где-то во время отступления.
Наши командиры не возвращались, наблюдая за развитием боя и наверняка прикидывая, когда и каким образом обойти поле сражения, не особенно при этом отрываясь от Ельнинского большака. А наше дело было набраться терпения и ждать, что мы и делали.
Вскоре к немцам подошла артиллерия: пушечные выстрелы стали раскатистее, а разрывы снарядов – мощнее. Немецкие танки, нарвавшись на организованное сопротивление в селе, отошли и начали бить прицельно по первой оборонительной линии наших. А подтянутая и очень быстро развернувшаяся артиллерия вела огонь по глубине нашей обороны, стремясь нарушить связь, подход резервов и накрыть командные пункты. В селе рвались снаряды, в нескольких местах вспыхнули избы, и жители побежали в поле. Мы видели, как они метались, путаясь в высокой пшенице, падая при близких разрывах, вскакивая и вновь стремясь к лесу. Перелетные снаряды рвались и в поле, и оно вдруг задымилось ленивым черным дымом, стелющимся поверх колосьев.