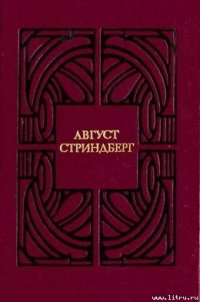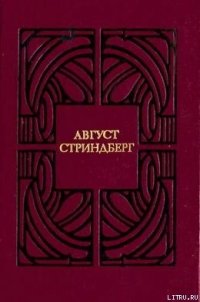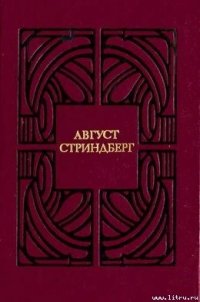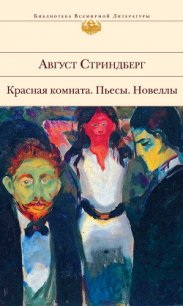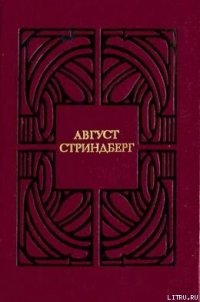Слово безумца в свою защиту - Стриндберг Август Юхан (книги онлайн полностью TXT) 📗
– И правильно сделает! У него есть все основания так поступить.
– Если вы немедленно не возьмете билета до Копенгагена, – воскликнула она, – то я останусь!
– Нет! – ответил я. – Если я уеду с вами, это будет считаться похищением, и завтра весь город заговорит об этом.
– Мне нет до этого дела! Быстрее!
– Нет! Не пойду!
В эту минуту, кроме неприязни, я испытывал к ней глубокую жалость. Ее положение и в самом деле было ужасное, а тут еще ссора, готовая разразиться, ссора между любовниками!
Но она взяла меня за руки, пристально посмотрела мне в глаза, и лед растаял. Волшебница околдовала меня, и воля моя оказалась сломленной.
– Но только до Катринхольма! Умоляю.
– Хорошо!
А она поспешила сдать багаж.
Увы, все было потеряно, даже честь, впереди меня ждала еще одна ночь пыток.
Поезд трогается, мы сидим вдвоем в купе первого класса. Решение барона не прийти на вокзал подавило нас. Возникла непредвиденная опасность, и она не предвещала ничего хорошего. Мучительное молчание затягивается, каждый ждет, чтобы другой начал разговор. Наконец она разражается первой:
– Ты меня больше не любишь!
– Быть может, – отвечаю я, сам ошеломленный результатами прошедшего месяца.
– А я всем пожертвовала ради тебя.
– Не ради меня, а ради своей любви! К тому же я жертвую тебе свою жизнь. Ты сердишься на Густава, облегчи свою душу, ругая меня, но не безумствуй.
Она плачет, плачет. Вот так свадебное путешествие! Я ожесточился, влез в свой железный панцирь, стал бесчувственным, жестким, непроницаемым.
– Умерь свои чувства! Ибо отныне тебе придется стать разумной. Плачь сколько хочешь, излей все свои слезы, а затем выпрямись! Ты – дура, а я тебя обожал, как королеву, как существо высшего порядка, и во всем безоговорочно слушался, потому что считал себя более слабым. Не доводи же до того, чтобы я начал презирать тебя. Никогда не сваливай всю вину на меня одного! Как восхитился я вчера умом Густава, потому что он понял, что большие события жизни людей нельзя объяснять единственной причиной. Кто виноват во всем? Ты, и я, и он, и она, и грозящее разорение, и твое увлечение театром, и эрозия матки, и то наследство, которое ты получила от трижды разводившегося деда, и страх твоей матери перед беременностью, из-за которого получилась столь нерешительная натура, и безделье твоего мужа, профессия которого оставляет ему слишком много свободного времени, и мои инстинкты выходца из низшего сословия, и своеобразие характера одной финской барышни, которая толкнула меня к тебе, – одним словом, есть несметное число скрытых причин, лишь малую часть которых я чуть-чуть приоткрыл. Не опускайся до черни, которая завтра будет тебя однозначно осуждать, не веди себя как идиотка, которая воображает, будто решила сложный вопрос, оплевав и свой адюльтер, и гнусного соблазнителя. Неужели ты считаешь, что я тебя действительно соблазнил? Будь хоть раз искренней с самой собой, да и со мной, когда мы одни, без свидетелей.
Но нет, она не хочет быть искренней. Не может, потому что это против природы женщины. Она чувствует себя соучастницей, ее мучают угрызения совести, и она хочет освободиться от этого груза, переложив все на меня!
Я ей не мешаю, но отгораживаюсь тягостным молчанием. Наступает ночь. Я опускаю стекло в окне и гляжу, как проносятся мимо ряды сосен, за которыми вскоре появится луна. Я вижу то озеро, окруженное березками, то ручей, проложивший себе путь в ольшанике, поля пшеницы, луга и снова сосновый бор… Вдруг меня охватывает безумное желание выпрыгнуть из вагона, бежать из этого застенка, в который меня заточила колдунья, сковав по рукам и ногам. Ответственность за ее будущее мучает меня, как настоящий кошмар. Я понимаю, что отныне отвечаю за жизнь этой чужой мне женщины, ее будущих детей, ее матери, ее тети, за весь род ее во веки веков. Я займусь устройством ее театральной карьеры, я перестрадаю вместе с ней все ее страдания, все разочарования, все неудачи, и настанет день, когда она выкинет меня на помойку, как выжатый лимон. За любовь, которую я ей дарю и которую она принимает, я заплачу всей своей жизнью, своим мозгом, своей кровью, и при этом она еще воображает, будто всем пожертвовала ради меня! Любовная галлюцинация, гипнотизм инстинкта воспроизводства!
Она дуется на меня до десяти вечера. Еще час – и нам пора будет проститься.
Тогда, извинившись и сославшись на крайний упадок сил, она кладет ноги на подушку моего сидения. Я же сохранял все это время полное хладнокровие и был неприступен, как скала, несмотря на ее красноречивые взгляды, закатывающиеся глаза, слезы, словесную паутину, которой она меня опутывала, но как только я увидел ее крошечный башмачок и полоску чулка над ним, правда совсем узенькую, я рухнул.
На колени, Самсон! Рассыпь свои волосы по ее бедрам, прижмись к ним щекой, умоляя простить тебя за сказанные суровые слова – она все равно ничего не поняла! – отрекись от разума, от самого себя и люби ее, жалкий раб! Ты пасуешь перед белым чулком, а считаешь, что способен перевернуть мир. Она любит тебя, только когда ты предстаешь перед ней в жалком виде, она покупает тебя за минуту восторгов, которые она тебе обеспечивает без особого труда для себя, ни от чего ради этого не отказываясь, исторгая из тебя каплю твоей свежей крови!
Паровозный свисток, вот станция, где мы должны проститься. Она целует меня, как заботливая мама, осеняет крестные знамением, хоть она и протестантка, вверяет меня божьему милосердию, умоляет следить за собой и утешиться.
И поезд исчезает в ночи, обдав меня облаком угольного дыма.
Я вдыхаю – наконец-то! – свежий воздух ночи и свободу. Но только на мгновение! Уже в деревенской гостинице меня начинает мучить раскаяние. Я люблю ее, люблю такой, какой она была в минуту прощания, вызвав у меня воспоминания о первых наших встречах. Женщина-мать, мягкая, ласковая, которая меня нежит, лелеет, как младенца.
И вместе с тем я ее люблю как женщину и желаю со всей страстью.
Что это, душевная аномалия? Или каприз природы? Не порочны ли мои чувства, раз я хочу обладать той, которая обращается со мной как со своим ребенком? Не толкает ли меня мое сердце на инцест?
Я прошу дать мне перо и бумагу, и я пишу ей письмо, которое заканчивается молитвой за ее будущее потомство.
Ее последние объятия вернули меня даже к господу богу, память о ее поцелуях, увлажнивших мои усы, заставила меня отречься от сухой веры в прогресс.
Вот вам и первый этап деградации человеческой личности, за ним последуют и другие, которые приведут эту личность к полному отупению, на грань безумия.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
На следующий же день после отъезда в Копенгаген весь город уже говорил о похищении баронессы секретарем Королевской библиотеки. Именно этого и следовало ожидать, опасаться, избежать любой ценой, чтобы не погубить ее репутации, но все сорвалось из-за ее минутной слабости. Она все испортила, а мне теперь предстояло расплачиваться за ею содеянное и по возможности устранить последствия этой эскапады особенно пагубные для ее театральной карьеры, поскольку для нее речь могла идти только об одной сцене, а дурные нравы, отмеченные в досье, не очень-то способствуют ангажементу в королевский театр.
Чтобы иметь алиби, я, едва вернувшись в Стокгольм, под первым попавшимся предлогом отправился ни свет ни заря с визитом к директору библиотеки, который был нездоров и не выходил в тот день из дому. Потом я прогулялся по центральным улицам и вовремя явился на работу. Вечером я побывал в клубе журналистов и пустил слух о разводе баронессы из-за ее намерений стать актрисой, уверяя всех, что история эта вполне невинная, что супруги в прекрасных отношениях и расстаются только из-за социальных предрассудков.
Если бы я знал тогда, какие неприятности я себе уготовил, пуская слух о невиновности баронессы, я бы, конечно… поступил точно так же.
Газеты тут же публикуют сообщение об этом в отделе происшествий, но публика как-то не поверила в такую безоглядную любовь к искусству, которое, уж во всяком случае в кругу актрис, не очень-то высоко ставится. К тому же брошенный ребенок, как темное пятно, портил всю картину, и женщины не клюнули на приманку.