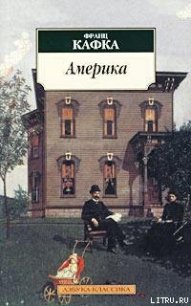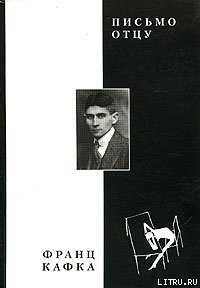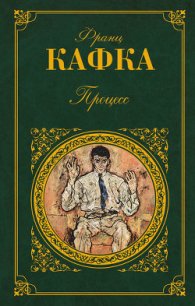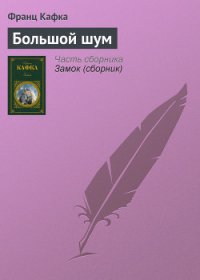Письма к Фелиции - Кафка Франц (книги полностью бесплатно .TXT) 📗
Кстати, еще из своего природного целительства я твердо усвоил, что все напасти от медицины, не важно, в чьем лице она представлена – глазным ли врачом, зубным или, на худой конец, детским… Дурацкое перо! Каких только глупостей не напишет, нет бы хоть раз написать что-то разумное, например «Ты моя любимая!», а потом еще раз «Ты моя любимая», а потом опять «Ты моя любимая» – и ничего кроме этого.
Мои мысли о Тебе куда разумней моих писаний Тебе. Вчера ночью я долго не мог и не хотел заснуть, два часа лежал в полудреме и непрестанно вел с Тобой самый проникновенный разговор. Разговор ни о чем, без каких либо сообщений, скорее это была сама форма откровенного разговора – и чувство необыкновенной близости и преданности.
Франц.
6.01.1913
Не смейся, любимая, только не смейся, желание, чтобы Ты сейчас была рядом со мной, накатило на меня до ужаса всерьез! Иногда, забавы ради, я высчитываю, за сколько часов при самых благоприятных обстоятельствах я бы смог до Тебя добраться и за сколько Ты до меня. Получается всегда долго, слишком долго, так отчаянно долго, что, даже отрешившись мыслью от иных препятствий, ввиду одного только этого срока на попытку не отваживаешься. Сегодня вечером, выйдя из дома, я прямиком направился к зданию на Фердинандштрассе, где помещается бюро вашего представителя. Со стороны могло показаться, что я чуть ли не на свидание с Тобой иду. Но я обошел дом в одиночестве и в одиночестве удалился. Даже упоминания о фирме Линдстрём ни на одной табличке не обнаружил. Этот человек именует себя всего лишь генеральным представителем компании по производству граммофонов. Почему? Иногда я искренне сожалею, что в Праге так мало мест, имеющих, по крайней мере по моим сведениям, к Тебе отношение. Квартира Бродов, Шаленгассе, Коленмаркт, Перлгассе, Обстгассе, Грабен… Потом еще кафе в Доме представительств, зал для завтраков в «Голубой звезде» и вестибюль. Как этого мало, любимая, но как же это малое выделяется для меня на карте города!
Мне столько всего надо Тебе ответить на оба Твоих сегодняшних письма, что Твоя мать, будь у нее возможность обозреть все это, удивлялась бы примерно в такой последовательности: как можно вообще писать, когда хочешь сказать так много и если знаешь, что перо ввиду всей этой уймы сказуемого только проведет по бумаге неуверенную и невразумительную черту?
Так, значит, мою фотографию Ты поместила в свое сердечко (какое «сердечко», забирай выше!), то бишь в свой медальон, где она неприятным соседством потеснила Твою малютку-племянницу, и намерена – верить ли мне своим глазам? – носить его день и ночь, не снимая? Да неужто Тебе не захотелось выбросить эту ужасную фотографию прочь? И она не пугает Тебя выпученным взглядом? Заслуживает ли она чести, которую Ты ей оказываешь? Подумать только, моя фотография хранится у Тебя в медальоне, а сам я торчу тут один в своей промороженной комнате (где я, как кажется, к величайшему своему позору, на днях еще и простудился). Но погоди, скверная фотография, благословен будет миг, когда я приду и собственной рукой изыму Тебя из медальона! И если не выброшу, то только из-за взоров, которые, возможно, Фелиция на Тебя расточила.
Прекращаю, уже поздно, а закончить я бы все равно никогда не смог, да и что это за дело для рук – письма писать, когда они предназначены держать Тебя в объятьях и ничего иного не желают.
Франц.
7.01.1913
Любимая моя Фелиция, пишу Тебе сегодня пополудни, потому что не знаю, поднимусь ли вообще вечером с постели. Может, лучше будет проспать до утра. Я, очевидно, простужен, причем насквозь. А если это не простуда, то что-то дьявольски на нее похожее. Буду пить сегодня горячий лимонад, заворачиваться в горячую простыню и, удалившись от всего мира, грезить о Фелиции. Пусть жара изгоняет из меня и из моей комнаты все простуды и всех призраков, дабы обеспечить чистое вместилище для мыслей о Тебе, любимое мое дитя.
Это мне-то не хулить больше почту? Но послушай, Твое воскресное вечернее письмо я получил в понедельник утром, тогда как Твое воскресное утреннее тоже утром, но только сегодня, во вторник. (На службу письма вообще приходят аккуратнее, живем-то мы на отшибе.) Наверно, все из-за Твоей фотографии, которую почта просто не хотела мне отдавать. Милая, какой же замечательный снимок! Может, не в частностях, но этот взгляд, эта улыбка, эта поза! Что-то нездоровое буравит изнутри мне голову, но стоит мне посмотреть на Твою фотографию, и боли как не бывало. Теперь наконец я иногда вижу Тебя так, как увидел тогда, в первый раз. Этого характерного движения руки я уже совсем не помнил, но теперь, по-моему, оно снова оживает в памяти. Приветливость Твоего взгляда относится ко всему на свете (так же, как мой на все на свете таращится), но я принимаю ее на свой счет и счастлив.
Любимая, о моей простуде, пожалуйста, и думать забудь. Я и упомянул-то о ней лишь потому, что люблю поболтать с Тобой о всякой всячине, это само собой получается, когда лица так близко друг к другу, как они должны быть в жизни, а бывают только в мечтах. Легкое, недолговременное заболевание – с детства моя вечно чаемая, но редко вкушаемая отрада. Оно прерывает неумолимый ход времени и помогает траченному, буквально измочаленному жизнью человеку, каким становишься с годами, хоть в самой малости пережить второе рождение, по которому я и правда уже истомился. Пусть хотя бы ради того, чтобы Ты, Фелиция, имела дело с более приятным корреспондентом, который наконец-то научится понимать, что Ты ему слишком дорога, чтобы непрестанно изводить Тебя жалобами.
Франц.
8.01.1913
По различным причинам я сегодня, вместо того чтобы писать, отправился на прогулку все с тем же д-ром Вельчем, после того как полтора часа провел в его семействе, слушая его отца, мелкого торговца сукном, умного, всем интересующегося человека, который рассказывал множество дивных стародавних историй о прежней жизни пражских евреев, еще из времен его деда – тот был крупным торговцем сукном. Хоть и в дружеском кругу, но я был среди чужих людей и в их обществе чувствовал себя неуютно. Это несоответствие всегда выражается у меня в том, что я, когда мне что-либо рассказывают, не могу спокойно смотреть рассказчику в глаза, и взгляд мой, если дать ему волю, норовит соскользнуть с лица собеседника, либо, если я силой стараюсь его задержать, перестает быть спокойным, а делается именно что застывшим. Но разве я собрался описывать Тебе весь нынешний вечер? Вовсе нет, но из неимоверной толкучки всего, что хочешь сказать, в изрядно отупевшую к вечеру голову лезет только самая своевольная и второсортная чушь. Мне вообще кажется, будто в последние дни я рассказал и ответил Тебе так мало, даже из самого насущного, что иногда у меня бывает чувство, что я вот-вот впаду в немилость у Твоих ушей. Не истолковывай мои не-ответы на некоторые Твои вопросы превратно и к моей невыгоде, волны, что несут меня, это волны темных, мутных, тяжелых вод, в которых я плыву вперед лишь с трудом, иногда и вовсе не продвигаюсь, но потом вдруг меня снова подхватывает, и тогда дело идет гораздо лучше. Ты и сама должна была это заметить за нашу первую четверть года.
Я и смеяться могу, Фелиция, можешь не сомневаться, я даже известен как большой хохотун, просто раньше я в этом отношении был куда более дурашлив, чем теперь. Меня однажды даже угораздило смеяться во время торжественной беседы с нашим президентом – правда, это уже много лет назад было, но в качестве легенды нашего агентства, думаю, надолго меня переживет, – да еще как смеяться! Было бы слишком скучно описывать Тебе значительность этого человека, просто уж поверь, что она очень велика и что среднему служащему нашего агентства он видится не простым смертным, а небожителем. Поскольку в обычной жизни нашему брату не часто выпадает случай побеседовать с императором, этот человек изредка дарит среднему служащему – так уж оно заведено во всех почти наших крупных учреждениях – некое подобие такой возможности. И разумеется, в этом человеке, как и в любом другом, чей высокий пост не вполне соответствует его заслугам, скрывается достаточно много комичного, если смотреть на него спокойным и беспристрастным взглядом стороннего наблюдателя, но впасть по этому естественнейшему поводу, при виде, так сказать, самого этого природного феномена, да еще в его сановном присутствии, в буйство столь неудержимого смеха – для этого поистине нужно быть у богов в особой немилости. Нас – двоих сотрудников и меня – тогда только что повысили в должности, в связи с чем нам и надлежало в парадных черных костюмах предстать пред очи президента, дабы изъявить ему нашу благодарность, причем не следует забывать, что именно я по особым причинам заранее был обязан президенту особой благодарностью. [4] Самый достойный из нас – я-то был самый молодой – произнес благодарственную речь, краткую, складную, напористую, вполне в своем духе. Президент благосклонно внимал ему в обычной своей, излюбленной по подобным торжественным случаям, слегка напоминающей императорскую во время аудиенций, и действительно – если, конечно, хочешь видеть или не можешь не видеть – донельзя уморительной позе. Ноги скрещены, левая сжатая в кулак рука опирается на самый угол стола, голова опущена, так что седая пышная борода перекатом ниспадает на грудь, и вдобавок ко всему животик, не слишком большой, но все же заметно выступающий, плавно колышется. Должно быть, я был тогда в совсем уж необузданном настроении, потому что позу эту вообще-то давно изучил вдоль и поперек, и не было никакой необходимости издавать по такому случаю, хоть и с перерывами, легкие смешки, которые, впрочем, пока что удавалось выдать за позывы кашля, тем более что президент сидел, не поднимая глаз. Да и ясный голос коллеги, который, заметив мое состояние и не желая ему поддаваться, застывшим от напряжения взором пялился прямо перед собой, еще как-то держал меня в узде. Но тут, по окончании его речи, президент поднял голову, и при виде его лица меня, уже без всякого смеха, на миг обуял ужас, потому что теперь-то он мог увидеть мои гримасы и без труда понять, что звуки, к моему глубокому прискорбию, из меня исходящие, вовсе даже не кашель. Когда же он начал свою речь – эту обычную, давно заранее всем известную, по-императорски разбитую на тезисы, хрипами и одышкой сопровождаемую, совершенно бессмысленную и беспредметную речь, – когда мой коллега грозными косыми взглядами попытался меня, и так изо всех сил старающегося овладеть собой, предостеречь и одернуть и тем самым только живо напомнил мне о недавних радостях моего с трудом подавленного смеха, – тут уж я больше сдерживаться не мог, да и всякую надежду когда-либо сдержаться потерял окончательно. Сперва я смеялся только безобидным дежурным шуточкам нашего президента, привычно рассеянным тут и там по тексту речи; в то время как негласным этикетом предписывалось отзываться на подобные шуточки вежливо-уважительным подобием • улыбки, я смеялся уже просто во все горло, хотя и видел, в каком ужасе, из боязни заразиться, отшатываются от меня мои коллеги, и мне было жаль их больше, чем себя, но ничего поделать с собой я не мог, – при этом я даже не пытался, к примеру, отвернуться или прикрыть рот рукой, а только в полной беспомощности таращился на президента выпученными глазами, не в силах даже взгляд отвести, в смутном, хотя, вероятно, и справедливом предположении, что исправить ничего уже не смогу, только усугубить, а коли так, то лучше уж не предпринимать ничего вовсе. Разумеется, войдя во вкус, я смеялся не только свежеоброненным шуточкам нашего президента, но и оброненным недавно, и в прошлом, и в будущем, и вообще всем его шуткам, так что вскоре уже никто вокруг не понимал, что, собственно, меня так рассмешило;. всеобщее замешательство до некоторой степени не затронуло пока одного президента – крупный чин, к тому же светский человек, он многое повидал на своем веку, да и мысль о возможности столь неуважительного отношения к собственной персоне просто не приходила ему в голову. Если бы нам в эту минуту незаметно улизнуть из залы, глядишь, и президент подсократил бы немного свою речь, и все обошлось бы относительно безобидно, то есть поведение мое, конечно же, все равно было бы сочтено неприличным, но никто не стал бы открыто о нем распространяться, и вся история, как это часто бывает с самыми, на первый взгляд, невозможными вещами, была бы улажена дружным молчанием всех четверых непосредственных ее участников. Однако тут, по несчастью, еще один, пока что не упомянутый мною коллега (уже почти сорокалетний мужчина, с по-детски круглым, хотя и бородатым лицом, при этом большой любитель пива) начал свое, пусть и краткое, но совершенно неожиданное ответное выступление. Этот его порыв остался для меня полной загадкой, только что он, и так выведенный из равновесия моим смехом, стоял рядом с надутыми от натуги щеками – и вдруг начинает говорить серьезную речь. Однако как раз в его случае это вполне объяснимо. Человек скорее пустой, но с пылким темпераментом, он имеет обыкновение бесконечно долго и горячо отстаивать вещи общепринятые и никем не оспариваемые, причем речи его были бы скучны до умопомрачения, если бы не их страстность, совершенно неуместная, смешная и потому симпатичная. А президент в простоте душевной что-то такое сказал, что моего коллегу не вполне устроило, к тому же он, очевидно, под влиянием моего теперь уже беспрерывного смеха, несколько позабыл, где находится, короче, он решил, что именно сейчас самая подходящая минута выступить со своим особым мнением и убедить в нем нашего (к любому мнению подчиненных, разумеется, до смерти равнодушного) президента. И вот когда он, вдохновенно размахивая руками, понес какую-то совсем уж невообразимую (и вообще-то, а в данном случае особенно) околесину, мне стало вконец невмоготу, свет, прежде еще как-то различимый, померк у меня перед глазами, и я разразился таким громовым и безудержным хохотом, какой в столь бесхитростно-чистосердечной откровенности позволителен разве что первоклашкам на их школьных скамьях. Все разом умолкли, и теперь уже только я со своим хохотом был безусловным центром всеобщего внимания. Надо ли говорить, что колени мои, хоть я и смеялся, подламывались от страха, – мои сослуживцы, кстати, теперь тоже смеялись, причем безнаказанно, ибо до отвратительности моего столь явного и злоумышленного хохота им было далеко, в его тени их смешки оставались относительно незаметными. Правой рукой неистово колотя себя в грудь, отчасти в знак раскаяния (и напоминания о дне примирения), отчасти же силясь выбить из себя как можно больше столь долго сдерживаемого смеха, я бормотал какие-то извинения, которые, каждое по отдельности и все вместе, возможно, были даже весьма убедительны, но, перемежаемые и заглушаемые все новыми приступами хохота, оставались для присутствующих совершенно невнятными. Теперь, конечно, и сам президент несколько смешался, и только призвав на помощь все свойственное людям подобного ранга умение сглаживать любую неловкость, выстроил наконец какую-то фразу, давшую моему нечеловеческому вою сколько-нибудь человеческое объяснение, по-моему, отнеся его к какой-то очень давней, уже всеми забытой собственной шутке. После чего поспешно нас отпустил. Так и не укрощенный, все с тем же безумным смехом на устах, я, пошатываясь, первым вышел из залы. – Письмом, которое я немедленно после этого написал президенту, посредничеством президентского сына, с которым я хорошо знаком, наконец, просто течением времени дело по большей части удалось замять и загладить, однако полного прощения я, конечно, удостоен не был и не удостоюсь никогда. Но оно не так уж много для меня значит, быть может, я для того только тогда все это натворил, чтобы когда-нибудь доказать Тебе, что тоже умею смеяться.
4
С сыном этого президента Кафка в последние гимназические и в первые свои студенческие годы был дружен.