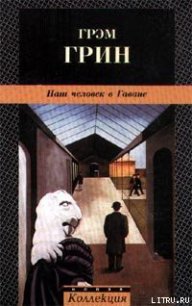Сила и слава - Грин Грэм (серия книг TXT) 📗
— Что здесь происходит? — сказал сержант. Остановившись в дверях на ярком солнце, он заглянул в камеру.
Священник медленно проговорил:
— Он хочет, чтобы я убрал его блевотину, а я говорю, вы велели мне только…
— Он у нас гость, — сказал сержант. — С ним надо повежливее. Раз просит, так убери.
Метис глупо ухмыльнулся. Он сказал:
— А как насчет бутылки пива, сержант?
— Рано тебе еще, — сказал сержант. — Сначала обыщи город.
Священник взял ведро и пошел через двор, а те двое продолжали препираться. У него было такое ощущение, будто в спину ему нацелена винтовка. Он вошел в уборную, вылил ведро, потом снова вышел на яркий свет — теперь винтовка целилась ему в грудь. Сержант и метис разговаривали, стоя в дверях камеры. Он перешел двор; они не спускали с него глаз. Сержант сказал метису:
— Ты говоришь, у тебя желчь разлилась и глаза с утра не глядят. Так вот, сам убери свою блевотину. Раз ты от своего дела отказываешься… — Метис хитро, но неуверенно подмигнул из-за спины сержанта. Теперь, когда минутный страх прошел, священнику стало жалко себя. Бог принял решение. Он снова должен жить, снова что-то решать, изворачиваться, предпринимать что-то по своему усмотрению…
У него ушло еще полчаса на то, чтобы закончить уборку и вылить на пол каждой камеры по ведру воды. Он видел, как набожная женщина исчезла словно навсегда под аркой ворот, где ее ждала сестра с деньгами для штрафа. Обе они были закутаны в черные шали, как вещи, купленные на рынке, — какие-то твердые, сухие, подержанные. Потом он снова доложился сержанту, тот осмотрел камеры, покритиковал его работу, велел вылить еще воды на пол и вдруг, наскучив всем этим, сказал, чтобы он пошел к хефе за разрешением на выход. Ему пришлось просидеть еще час на скамейке у двери хефе, глядя на караульного, который лениво прохаживался взад-вперед под палящим солнцем.
А когда наконец полицейский ввел его в помещение, за столом там сидел не хефе, а лейтенант. Священник остановился неподалеку от своей фотографии на стене и стал ждать. Он пугливо бросил мимолетный взгляд на помятую газетную вырезку и с чувством облегчения подумал: теперь я не очень похож. Какой он, наверно, был несносный в те годы — несносный, но все же более или менее чистый нравственно. Вот еще одна тайна: иногда ему кажется, что грехи простительные — нетерпение, мелкая ложь, гордыня, упущенные возможности творить добро — отрешают от благодати скорее, чем самые тяжкие грехи. Тогда, пребывая в своей чистоте, он никого не любил, а теперь, греховный, развращенный, понял, что…
— Ну, — сказал лейтенант, — убрал он камеры?
Он не поднял глаз от лежавших перед ним бумаг. Он сказал:
— Передай сержанту, что мне нужен отряд в двадцать пять человек и чтобы винтовки у них были вычищены. Даю на это две минуты. — Он рассеянно взглянул на священника и сказал: — Чего ты ждешь?
— Разрешения, ваше превосходительство, на выход.
— Я не превосходительство. Называй вещи своими именами. — Он резко проговорил: — Ты здесь сидел раньше?
— Нет, никогда.
— Твоя фамилия Монтес. За последнее время мне столько этих Монтесов попадалось. Твои родственники? — Он пристально смотрел на священника; память его, видно, начала работать.
Священник торопливо ответил:
— Моего двоюродного брата расстреляли в Консепсьоне.
— Я тут ни при чем.
— Да нет… я хотел сказать, что мы с ним очень похожи. Наши отцы были близнецами. Мой старше всего на полчаса. Я думал, что ваше превосходительство…
— Насколько мне помнится, тот был совсем другой. Высокий, худощавый, узкий в плечах.
Священник торопливо сказал:
— Может, только родные замечали сходство…
— Правда, я видел его всего один раз. — У лейтенанта словно совесть была неспокойна, его смуглые руки теребили бумаги на столе. Он задумался… Потом спросил: — Куда ты пойдешь отсюда?
— Бог весть.
— Все вы на один лад. Не понимаете, что Богу ничего не ведомо. — Какая-то крошечная капелька жизни, точно соринка, скользнула по лежавшим на столе бумагам: он прижал ее пальцем. — Заплатить тебе штраф нечем? — И стал следить, как другая соринка выбралась из-под листка бумаги и поползла, ища спасения. В этом зное жизнь не прекращалась ни на секунду.
— Нечем.
— На что же ты будешь жить?
— Может, найду работу…
— Где тебе работать? Ты уже стареешь. — Он вдруг сунул руку в карман и вынул монету в пять песо. — Вот, — сказал он. — Уходи отсюда и больше мне не попадайся. Запомни это.
Священник зажал монету в кулаке — столько стоит заказная месса. Он удивленно проговорил:
— Вы хороший человек.
4
Было еще совсем рано, когда он переплыл реку и, мокрый до нитки, выбрался на противоположный берег. Он никого не рассчитывал встретить здесь в такой ранний час. Домик, крытый железом сарай, флагшток. Ему казалось, что на закате все англичане спускают флаг и поют «Боже, храни короля». Он осторожно обогнул угол сарая, и дверь подалась под его рукой. Он очутился в темноте — там, где был и в тот раз. Сколько недель назад? Он не знал. Помнил только, что до начала дождей было еще далеко, а теперь они уже начинаются. Через неделю пересечь горы можно будет только на самолете.
Священник пошарил вокруг себя ногой; ему так хотелось есть, что он был бы рад и двум-трем бананам, — он не ел уже два дня, — но бананов здесь не нашлось, ни одного. Наверно, весь урожай отправили вниз по реке. Он стоял в дверях сарая, стараясь припомнить, что девочка говорила ему — про азбуку Морзе, про свое окно. За мертвой белизной пыльного двора на москитной сетке блестело солнце. Тут все как будто в пустом чулане, подумал он и стал с беспокойством прислушиваться. Нигде ни звука. День здесь еще не начинался — ни первых сонных шлепаний туфель по цементному полу, ни поскребывания когтей потянувшейся собаки, ни стука пальцев в дверь. Здесь никого не было — ни души.
А который час? Сколько прошло с рассвета? Ответить на это было невозможно: время как резина, оно растягивается до предела. А может, уже не очень рано — шесть, семь?.. Он вдруг понял, какие у него были надежды на эту девочку: она единственная могла помочь ему, не подвергая себя опасности. Если не перейти через горы в ближайшие дни, тогда ему конец. Тогда надо было самому явиться с повинной в полицию. Как пережить сезон дождей: ведь никто не осмелится дать пищу и кров беглецу. Все бы кончилось лучше и быстрее, если бы неделю назад в полицейском участке узнали, кто он такой. И тревог было бы меньше. Он услышал какие-то звуки — царапанье и жалобное повизгивание; надежда несмело возвращалась к нему. Вот это и есть то, что называют рассветом, — заговорила жизнь. Стоя в дверях сарая, он жадно ждал.
И жизнь появилась — это была сука, тащившаяся по двору; уродливая, с опущенными ушами, она, скуля, волочила за собой то ли раненую, то ли перебитую ногу. Что-то неладное было у нее и со спиной. Она еле передвигалась; ребра у нее выступали, как у экспоната в зоологическом музее; она явно не ела много дней — ее бросили.
Но в противоположность ему в ней еще теплилась надежда. Надежда — инстинкт, убить который может только человеческий разум. Животному неведомо отчаяние.
Глядя, как она тащится, он понял, что она проделывает это постоянно, может, уже не первую неделю; этим начинается каждый новый день, как пением птиц начинается рассвет в краях более счастливых. Собака подтащилась к веранде и, как-то странно распластавшись на полу, уткнулась носом в дверную щель и стала скрести лапой. Словно принюхивалась к непривычному запаху пустых комнат; потом вдруг нетерпеливо взвизгнула и забила хвостом, будто ей послышалось какое-то движение в доме. И завыла.
Священник не мог больше это вынести; все было ясно, но надо увидеть самому. Он пошел по двору, и собака, с трудом перевернувшись, — какая пародия на сторожевого пса! — залаяла на него. Ей не просто кто-нибудь был нужен; ей нужно было привычное; ей нужно было, чтобы вернулся прежний мир.