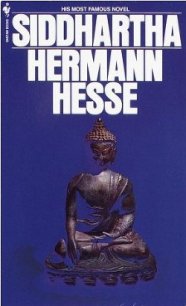Нарцисс и Гольдмунд - Гессе Герман (читать книги без сокращений TXT) 📗
Когда он в первый раз осознал это, ему стало смертельно горестно. Ах, чтобы делать милые фигурки ангелов или другие пустяки, будь они даже столь прелестны, не стоило быть художником. Для других, возможно, для ремесленников, для горожан, для спокойных, довольных душ это. пожалуй, подходило, но не для него. Для него искусство и художественность ничего не стоили, если они не жгли, как солнце, и не захватывали подобно буре, а доставляли лишь удовольствие, приятность, мелкое счастье. Он искал другого. Позолотить чистым листовым золотом вырезанный, подобно изящному кружеву, венчик на голове Марии была работа не для него, даже если за нее хорошо платили. Почему мастер Никлаус брался за все эти заказы? Почему держал двух подмастерьев? Почему он часами выслушивал с аршином в руках всех этих членов муниципалитета или благочинных, заказывавших ему отделать портал или церковную кафедру? Он делал это по двум причинам, двум ничтожным причинам: ему хотелось быть прославленным мастером, заваленным заказами, и он копил деньги, деньги не для расширения предприятия или удовольствия от их траты, а деньги для своей дочери, которая давно уже была богатой невестой, деньги для ее приданого, кружевных воротников и парчовых платьев и брачной кровати орехового дерева, полной дорогих покрывал и полотна! Как будто красивая девушка не могла с таким же успехом познать любовь на любом сеновале!
В часы таких рассуждений в Гольдмунде из глубин поднималась материнская кровь, гордость и презрение бесприютного по отношению к оседлым и имущим. Временами ремесленничество и мастер были противны ему, как пресные бобы. Часто он бывал близок к тому, чтобы убежать прочь.
Да и мастер уже не раз горько раскаивался в том, что принял участие в этом строптивом и ненадежном малом, частенько испытывавшем его терпение. То, что он узнал о странствиях Гольдмунда, о его равнодушии к деньгам и имуществу, его страсти к расточительству, его многочисленных любовных похождениях, не могло расположить его; он взял к себе цыгана, ненадежного товарища. Не осталось незамеченным и то, какими глазами этот бродяга смотрел на его дочь Лизбет. И если он и проявлял больше терпения, чем ему хотелось, бы, то делал это не из чувства долга и робости, а из-за апостола Иоанна, фигура которого рождалась у него на глазах. С чувством любви и душевного родства, в котором он не вполне признавался себе, мастер наблюдал, как этот приблудший из лесов цыган из рисунка, ради которого он когда то оставил его у себя, рисунка трогательного и прелестного, хотя и неумелого, теперь медленно и только по настроению, но упорно и безупречно делал из дерева свою фигуру апостола. Когда-нибудь, в этом мастер не сомневался, она будет готова, несмотря на все настроения и перерывы, и тогда это будет произведение, на которое неспособен ни один из его подмастерьев, да и большим мастерам не часто удается. Хотя многое не нравилось мастеру в его ученике, хотя не раз порицал он его, часто доходя из-за него до бешенства, – об Иоанне он никогда не говорил ни слова.
Остаток юношеской прелести и мальчишеской детскости, из-за которых Гольдмунд столь многим нравился, за эти годы постепенно утратился. Он стал красивым мужчиной, весьма желанным для женщин, мало располагавшим к себе мужчин. Да и характер, его внутренний мир очень изменились с тех пор, как Нарцисс пробудил его от блаженного сна во время пребывания в монастыре, с тех пор, как мир и странствия помяли его. Из прелестного, всеми любимого, кроткого и услужливого монастырского ученика он давно стал другим человеком. Нарцисс его пробудил, женщины сделали знатоком, странствия закалили. Друзей у него не было, сердце его принадлежало женщинам. Эти завоевывали его, достаточно было просящего взгляда. Он с трудом мог противиться женщине, отзываясь на малейший намек. И он, так тонко чувствовавший красоту и всегда любивший больше всего молодых девушек в пору расцвета, он же соблазнялся подчас и мало привлекательными и уже немолодыми женщинами. Иной раз на танцах он привязывался к какой-нибудь стареющей и унылой девице, никому не желанной и привлекавшей его из чувства сострадания, и не только сострадания, но и вечно присутствовавшей жажды нового. Как только он начинал увлекаться какой-нибудь женщиной – длись это недели или всего час, – она становилась для него прекрасной, он отдавался ей целиком. И опыт научил его, что любая женщина прекрасна, может сделать счастливым, что невзрачная и пренебрегаемая другими способна на необыкновенный пыл и самоотдачу, а увядающая – больше на материнскую печально-сладостную нежность, что у каждой женщины есть своя тайна и свое очарование, раскрывать которые – блаженство. В этом все женщины были равны. Любой недостаток в возрасте или красоте уравновешивался какой-нибудь особенностью. Только, разумеется, не всякая удерживала его одинаково долго. По отношению к молоденькой и самой красивой он бывал ни на йоту более преисполнен любви и благодарности, чем по отношению к дурнушке, он никогда не любил вполсердца. Но были женщины, которые привязывали его к себе лишь через три или десять любовных ночей, другие же после первого раза исчерпывали себя и бывали забыты.
Любовь и сладострастие казались ему единственными, чем можно согреть жизнь и наполнить значением по-настоящему. Он не знал честолюбия, епископ и нищий были равны в его глазах; приобретательство и имущество тоже не привлекали его, он презирал их, он никогда бы не принес им ни малейшей жертвы и беспечно бросался заработанными деньгами, временами немалыми. Любовь женщин, игра полов – это стояло у него на первом месте, и семя нередкой его печали и пресыщенности росло из опыта мимолетности и непостоянства сладострастия. Горячая, быстротечная, восхитительная вспышка любовного наслаждения, его короткое чувственное горение, его быстрое угасание – это, казалось ему, является сутью любовного переживания, стало для него символом всех наслаждений и всех страданий жизни. Печали и созерцанию бренности он мог отдаваться с такой же самоотверженностью, как и любви, и даже эта грусть была любовью, даже она была сладострастием. Как любовное наслаждение через миг своего наивысшего, блаженнейшего напряжения со следующим вздохом, должно непременно исчезнуть и опять умереть, так и самое глубокое одиночество и поглощенность печалью непременно вдруг сменится желанием, новой увлеченностью светлой стороной жизни. Смерть и наслаждение были одно. Матерью жизни можно было назвать любовь или страсть, но ею можно было назвать также могилу и тлен. Матерью была Ева, она была источником счастья и источником смерти, она вечно рождала, вечно убивала, в ней любовь и жестокость были едины, и ее образ становился для него олицетворением и священным символом, чем дольше он носил его в себе.
Он знал не на словах и в сознании, но более глубоким знанием крови, что его путь ведет к матери, к сладострастию и к смерти. Отцовская сторона жизни, дух, воля не были его стихией. То была область Нарцисса. И только теперь Гольдмунд вполне понял слова друга и увидел в нем свою противоположность, и это он тоже передавал в фигуре своего Иоанна и делал видимым. Можно было тосковать по Нарциссу до слез, можно было чудесно мечтать о нем, но достичь его, стать им было нельзя.
Каким-то скрытым чувством Гольдмунд произвел и тайну своего искусства, своей глубокой любви к искусству, своей подчас дикой ненависти к нему. Без размышлений, чутьем он предугадывал в разнообразных подобиях: искусство было слиянием отцовского и материнского начал мира, духа и крови; оно могло начаться в самом что ни на есть чувственном и привести к предельно отвлеченному или, взяв свое начало в чистом мире идей, завершиться в наиполнокровнейшей плоти. Все произведения искусства, поистине возвышенные, а не просто хорошие поделки, были полны вечной тайны, к примеру. Божья Матерь мастера, все истинные и несомненные произведения искусства имели опасное, улыбающееся двойное лицо, женско-мужское, совмещенность инстинктивного с чистой духовностью. Но больше всего эта двойственность проявилась бы в матери, если бы ему когда-нибудь удалось создать ее образ.