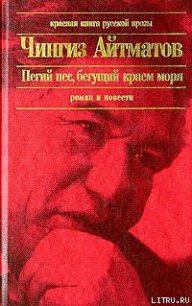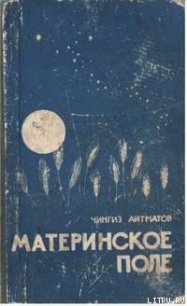И дольше века длится день - Айтматов Чингиз Торекулович (онлайн книги бесплатно полные txt) 📗
И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увезти его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуаней в безлюдных сарозеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство…
Наутро Найман-Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними, кружными путями долго подбиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из жуаньжуаней. И лишь убедившись, что никого нет, они окликнула сына по имени:
— Жоламан! Жоламан! Здравствуй!
Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос.
Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отнятую память.
— Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! — умоляла и убеждала она. — Твой отец Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан [12]. Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир.
И хотя все это на сына-манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь — вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь. И все-таки продолжала твердить свое:
— Вспомни, как твое имя? Твой отец Доненбай!
Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни.
Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появилось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тогда мать стала убеждать его покинуть это место, покинуть жуаньжуаней и уехать с ней к своим родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать куда-то, — а как же стадо? Нет, хозяин велел все время быть при стаде. Так сказал хозяин. И он никуда не отлучится от стада…
И снова в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила:
— Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай!
Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился жуаньжуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана не мешкая села на Акмаю. И пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один жуаньжуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а жуаньжуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмаи. Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, неслась по сарозекам с недосягаемой быстротой, унося Найман-Ану от смертельной погони.
Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуаньжуаны стали избивать манкурта. Но какой с него спрос. Только и отвечал:
— Она говорила, что она моя мать.
— Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! — запугивали они несчастного манкурта.
При этих словах манкурт побледнел, серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь.
— Да ты не бойся! На-ка, держи! — Старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами.
— А ну целься! — Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. — Смотри! — удивился владелец шляпы. — В руке память осталась!
Как птица, вспугнутая с гнезда, кружила Найман-Ана по сарозскскнм окрестностям. И не знала, как быть, чего ожидать. Угонят ли теперь жуаньжуаны весь гурт и с ним ее сына-манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы схватить? Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по скрытным местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуаньжуаней покинули стадо. Поехали прочь рядком, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и, когда они скрылись вдали, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увезти его с собой. Какой он ни есть
— не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашественники плененных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватило бы. Однако жуаньжуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства…
С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью.
Уже смеркалось. Над великими сарозеками опускалась, незримо вкрадываясь по логам и долам красноватыми сумерками, еще одна ночь из бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорбье. Настороженная и озабоченная Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, думы на челе и в глазах, как те сумерки сарозекские, неизбывная боль… Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле…
— Жоламан! Сын мой, Жоламан, где ты? — стала звать Найман-Ана.
Никто не появился и не откликнулся.
— Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?
И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.
— Жоламан! Сын мой! — звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. — Не стреляй! — успела вскрикнуть она и только было понукнула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.
То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!»
С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай!..»
То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в сарозеках кладбищем Ана-Бейит — Материнским упокоем…
От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний Буранный Каранар.
Покойный Казангап, которого теперь везли хоронить на Ана-Бейит, всегда доказывал, что Буранный Каранар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в сарозеках после гибели Найман-Аны.
Едигей охотно верил Казангапу. Почему бы и нет… Буранный Каранар стоил того… Сколько уже было испытаний и в добрые и в худые дни — и всегда Каранар вызволял из трудностей… Вот только дурной уж очень становится, когда в гон идет, в самые холода всегда это с ним случается, и тогда он лютует, страшно лютует, и зима лютует и он. Две зимы сразу. Сладу нет никакого в такие дни… Однажды он подвел Едигея, крепко подвел, и был бы он, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда не простил бы Буранный Едигей тот случай Буранному Каранару… Но что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон… Да дело-то и не в нем. Разве можно обижаться на животное, это ведь к слову сказано, просто уж судьба обернулась таким образом. При чем тут Буранный Каранар? Вот ведь Казангап хорошо знал эту историю, он ее и рассудил, а не то кто знает, как бы все вышло.
12
Жоламан — имя, образованное от двух слов: «жол» — путь, «аман» — здоровье; по смыслу — будь здоров в пути.